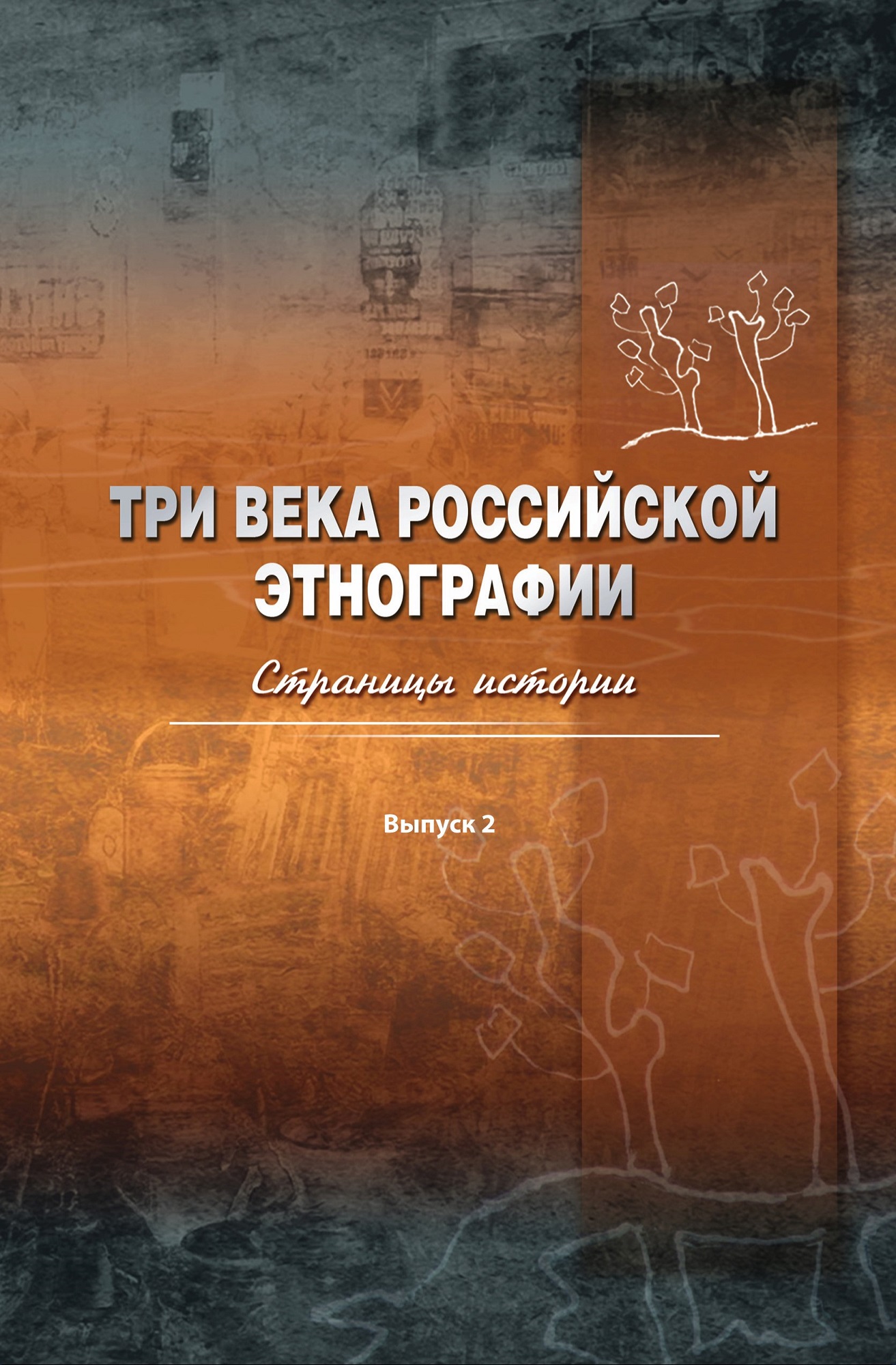- PII
- S086954150015503-3-1
- DOI
- 10.31857/S086954150015503-3
- Publication type
- Review
- Status
- Published
- Authors
- Volume/ Edition
- Volume / №3
- Pages
- 185-188
- Abstract
- Keywords
- Date of publication
- 27.06.2021
- Year of publication
- 2021
- Number of purchasers
- 6
- Views
- 150
Проект “перезапуска” историографической коммуникации и создания постоянной институциональной основы для систематического обсуждения историографических проблем, анонсированный инициаторами первого выпуска сборника “Три века российской этнографии: страницы истории” (2018), получил продолжение в 2019 г., что делает честь последовательности и настойчивости А.А. Сириной и ее коллег.
Основу второго выпуска составили 12 статей, подготовленных на основе текстов докладов, представленных на секции “Источниковедение, историография, судьбы ученых в отечественной и зарубежной этнологии” ХII Конгресса этнологов и антропологов России (г. Ижевск, 3–6 июля 2017 г.). Общее количество докладов (41), поданных для участия в секции, свидетельствует, по мнению редакторов-составителей, “о большом интересе и востребованности этой проблематики” (с. 6).
Возможны и другие интерпретации такого историографического “аншлага”. Ограниченный круг каналов профессиональной коммуникации и сокращение публикаторских возможностей вкупе с ужесточением наукометрических требований оставляют немного шансов обеспечить присутствие в профессиональном пространстве. Заявить доклад на ежегодный конгресс – одна из таких возможностей. Тем более что конгрессы демонстрируют тенденцию к расширению проблематики, круга участников и количества секций, отражающую то ли “цветущую сложность” этнологии/антропологии в России, то ли размывание ее предметной определенности и логико-дискурсивного уровня.
Оборотной стороной подобного многообразия выступает профессиональная дезориентация: калейдоскоп круглых столов/симпозиумов/секций (от фундаментальных, субдисциплинарных до узколокальных, региональных) и пестрый пул участников (зачастую не этнологов/антропологов в строгом профессиональном смысле) способны затруднить поиск своего места и встраивание в повестку форума. Общая тема XII Конгресса “Миссия антропологии и этнологии: научные традиции и современные вызовы” выглядит как косвенное признание неустойчивости и переходности дисциплинарного статуса, поскольку подразумевает, что кардинально новая социальная реальность и трансформирующиеся контуры этнологии/антропологии рождают новые смыслы ее существования и новую миссию.
История науки как бесспорный и внятный атрибут профессиональной идентичности оказывается прибежищем для тех, кто не нашел собственную “нишу” в огромном, предельно атомизированном коммуникативном пространстве конгресса. Подчас складывается впечатление, что историографический модуль формируется по остаточному принципу из докладов и сообщений, не попавших в повестку “основных” секций и круглых столов.
В ситуации трансформации профессиональной идентичности и очевидной растерянности антропологического сообщества перед лицом цеховых и социальных проблем историография из периферийного и узкоспециального знания превращается в важнейший элемент внутринаучной нормализации.
Исследователи обращаются к прошлому (изрядно романтизируемому), чтобы вытеснить инстинктивное неприятие настоящего и заместить отсутствие горизонта будущего, через прошлое обозначить исследовательское кредо или сформулировать утопию “идеальной науки”.
Столь массовое вторжение неисториографов в область истории науки, чем бы оно ни объяснялось, размывает контуры историографического жанра. Историографией объявляется буквально любая вылазка в прошлое этнографии, будь то опыт научной биографии или презентация архивного/эпистолярного/полевого/фотографического документа/источника. Восстановление неизвестных, забытых, недооцененных имен или фактов, сопричастных формированию этнографической традиции, как проявление исторической справедливости – это весомый, но явно недостаточный аргумент для исследователя, который неизбежно ранжирует эти имена и факты, устанавливает их историографический вес, встраивает как фрагменты мозаики в полотно прошлого, формируя его целостный логически непротиворечивый образ. Историография – это не калькуляция имен и фактов, не презентация и комментирование источников, но анализ и концептуализация, без чего формирование историографического континуума невозможно.
Рецензируемый сборник проявил одновременно сильные и слабые стороны массовизации интереса к истории науки. Положительное измерение состоит в том, что в историографическую лабораторию вовлекается все более широкий круг исследователей. История отечественной этнографии становится густонаселенной, выпуклой и выразительной за счет введения в научный оборот новых имен, биографических подробностей и источников. Отрицательное измерение – угроза фрагментации и деконтекстуализации материала. Особенно в случае с историей советской этнографии, где (в отличие от досоветской) отсутствуют обобщающие труды и целостная историографическая концепция.
Большинство статей сборника относятся к жанру Personalia. В орбиту историографического интереса попали фигуры очень разнородные: относительно малоизвестные – Фридрих Плениснер, представитель административной этнографии XVIII в. (статья С.В. Березницкого), А.Н. Кудрявцев, российский дипломат, вице-консул в Добрудже в1860-е годы (статья С.А. Иниковой), Н.Н. Волков, политический активист и сотрудник МАЭ в конце 1930-х годов (статья Е.Б Толмачевой); представители этнологического мейнстрима первой половины XX в. – монголовед Б.Б. Бамбаев (статья С.Г. Жамбаловой), этнограф Л.Е. Каруновская, ученица Л.Я. Штернберга (статья Е.В. Ревуненковой), этнограф и фольклорист Б.М. Соколов (статья М.М. Керимовой); один из “фронтменов” отечественной/мировой этнологии С.М. Широкогоров, чей исследовательский эвристический потенциал, судя по статье А.М. Кузнецова, историографически далеко не исчерпан. Это в высшей степени профессиональные и основательно верифицированные источниками тексты.
Авторы этих текстов исходят из презумпции академической объективности: прошлое должно говорить устами своих героев, архивных источников и фотодокументов. В этом видится добросовестность, беспристрастность и неангажированность наблюдателя исторических реалий. Но подобный историографический “нейтралитет” и фетиш “объективности” не более чем иллюзия или самообман. Выбор того или иного интеллектуального кумира выступает проекцией академической предрасположенности и бессознательного тяготения к подобному научному, гражданскому и человеческому стилю. То есть этот выбор субъективен, а в прошлом, как и в настоящем, мы ищем интеллектуальное и психологическое гетто.
Если первая половина XX в. в истории русской/советской этнографии – это основательно “вспаханное” историографическое поле, то, по справедливому замечанию инициаторов сборника, вторая половина прошлого столетия представляет собой “малоизученный период” (с. 7). Соглашаясь с этим, не могу разделить утверждение, будто “интерес ученых все более смещается к его изучению” (с. 7). Само содержание сборника этот тезис парадоксально опровергает.
Вторая половина XX в. представлена текстами Е.И. Мироновой, М.В. Головизнина, А.А. Истомина и И.Ю. Заринова (текст В.Ц. Головачева с точки зрения хронологической стоит особняком). Однако статья Е.И. Мироновой, повествующая об известной экспедиции историка и религиоведа А.И. Клибанова в Тамбовскую область (1959), скорее относится к истории становления советского религиоведения, а не этнографии. Статья М.В. Головизнина, посвященная “этнографическим” аспектам в творчестве русского писателя Варлама Шаламова, тоже бьет мимо цели: литературные труды Шаламова, не публиковавшиеся до 2017 г., в рассматриваемом историческом контексте не имели шансов повлиять на логику и динамику советской этнографии и едва ли что-то дают для характеристики облика этой “социалистической” дисциплины. Наконец, статья китаиста В.Ц. Головачева, исследующая обычай матереубийства и его пережитки в широком этно-историческом контексте (историографический аспект), при всем уважении к автору и его качественному тексту, не имеет решительно никакого отношения к трехвековой истории отечественной этнографии.
Другое дело, что статьи Е.И. Мироновой, М.В. Головизнина, В.Ц. Головачева сами по себе могут стать предметом историографического анализа в качестве характеристики современного состояния отечественной этнологической науки, свидетельствуя о таких ее чертах, как фрагментация этнологии/антропологии, возникновение целого ряда стыковочных субдисциплин, а также широкая экспансия антропологии, тематизировавшей различные сегменты гуманитарного дискурса.
Ближе всего к истории этнографии второй половины XX в. стоит статья А.А. Истомина, жанр которой можно определить как автобиографические заметки. Жанр весьма продуктивный с точки зрения историографического поиска, поскольку здесь срабатывает эффект “личного свидетельства” непосредственного участника или очевидца исторических событий (в данном случае речь идет о периоде 1982–1991 гг.). Но историк науки должен принимать в расчет следующее обстоятельство. В подобном типе историографического источника вопрос об объективности или субъективности автора, а также достоверности или недостоверности созданной им картины исторической действительности отходит на второй план. В конце концов, правда – это то, с чем мы согласны. Если следовать этой максиме, то единственным надежным критерием отношения к любой форме (само)рефлексии выступает ее способность вызвать эмоциональный отклик. Картина мира “по Истомину” – сотканный им миф о времени, этнологии и о себе в этнологии – вызывает эмоциональную обратную связь.
Собранные в сборнике статьи, не объединенные ничем (ни каким-либо проблемно-тематическим стержнем, ни концептуальными основаниями), кроме хронологического принципа, в целом создают впечатление разноголосия. Авторские монологи с “яйной” картиной мира не складываются в диалог и не формируют дискуссионного пространства. Факты прошлого – материал для трудов историков науки – сами по себе не являются историографией, которая предполагает как минимум упорядочивание фактов и выстраивание “силовых линий” историографического процесса, определяющих его логику и динамику.
Статья И.Ю. Заринова, рассматривающая динамику теоретических аспектов этнографии/этнологии/антропологии в широкой исторической ретроспективе, несмотря на ее обобщающий характер, не может компенсировать отсутствие историографической стратегии (концепции) или общего вектора исследований. Даже плохая (поверхностная, пунктирная) стратегия лучше ее отсутствия, и никакая сумма тактических историографических решений не способна ее заменить.
Стратегия, рассчитанная на несколько лет и коллективные усилия нескольких профессионалов, должна привести к созданию целостной концепции истории советской этнографии и превращению ее в конвенциональное знание, приемлемое для большинства. Подчеркну – необходима такая версия истории цеховой традиции в XX в., которая будет принята и психологически интериоризирована, избавив профессиональное сообщество от коллективной травмы, исток которой – драма крушения СССР и развал института советской науки. Без принятия прошлого невозможно двигаться вперед.
Следующим шагом в реализации такой историографической стратегии станет осмысление настоящего и преодоление “мифологии жертвенности”. Ученые – не жертвы, а акторы новой нормальности, пожинающие плоды собственных действий, а равно и бездействия. Неприемлемое настоящее и страх перед будущим толкают к поискам “золотого века” науки в прошлом – советском или досоветском. Однако историческое время не открутить назад. Нам предстоит вырваться из порочного круга представлений, в оптике которых этнология – наука, где вечно повторяется вчера.