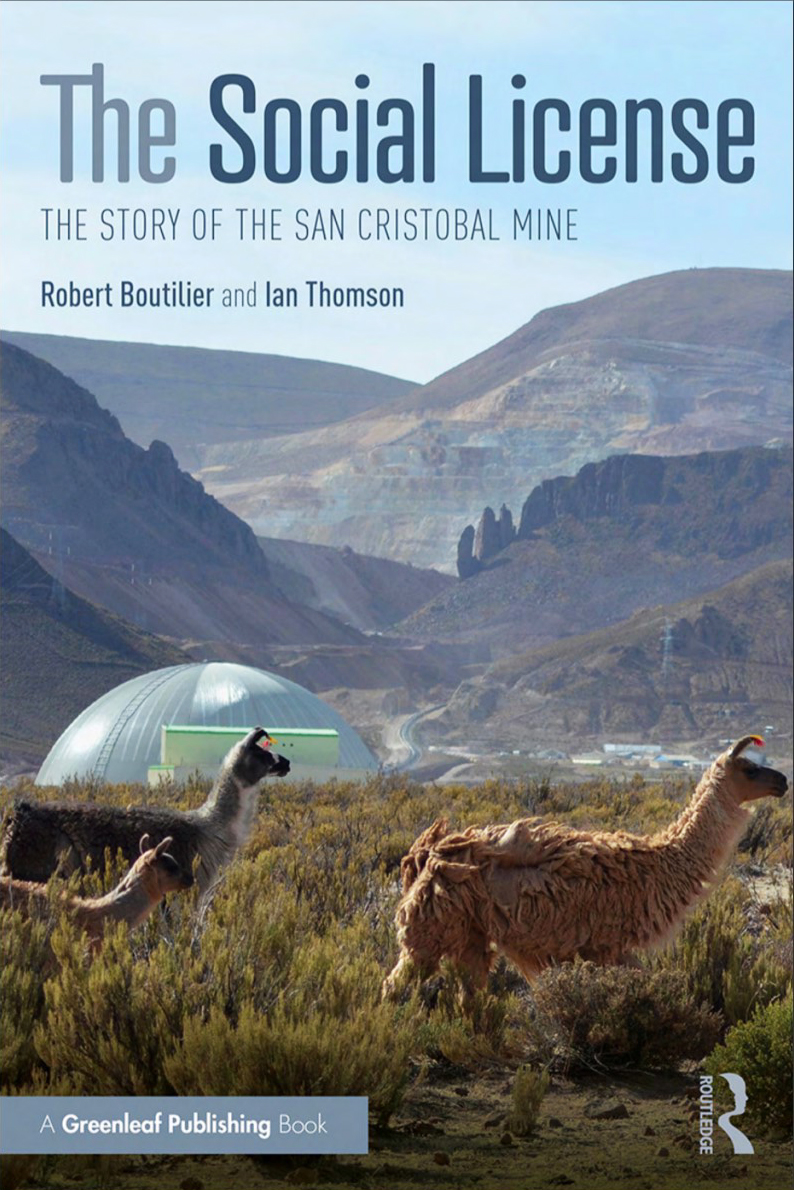- PII
- S086954150014814-5-1
- DOI
- 10.31857/S086954150014814-5
- Publication type
- Review
- Status
- Published
- Authors
- Volume/ Edition
- Volume / №2
- Pages
- 179-182
- Abstract
- Keywords
- Date of publication
- 26.06.2021
- Year of publication
- 2021
- Number of purchasers
- 6
- Views
- 157
В обзоре исследований, посвященных антропологии добычи (anthropology of mining), Джерри Жака выделяет следующие важные моменты в истории добывающей промышленности начиная с конца 1990-х годов (Jacka 2018): 1) под влиянием международных финансовых институтов политические условия во многих развивающихся странах изменились, сделав эти страны более привлекательными для инвестиций в добывающие проекты; 2) наблюдается рост цен на металлы и минералы; 3) появилось большое количество добывающих проектов в удаленных районах; 4) индустрия столкнулась с интенсивной критикой в связи с экологическими и социальными эффектами от реализации проектов как со стороны местных сообществ, так и со стороны международных НКО; 5) добывающие компании интенсифицировали усилия по созданию положительного образа – в том числе через практики корпоративной социальной ответственности (КСО), направленные на улучшение социальных, экономических и экологических условий жизни людей.
Одно из выделенных в обзоре направлений антропологических исследований связано как раз с практиками и дискурсами КСО, другое – с социальными конфликтами, возникающими вокруг добывающих компаний. Обе эти темы находятся в центре работы Бутильера и Томсона. Интерес авторов, впрочем, не столько теоретический (хотя они используют и разрабатывают теории), сколько практический: оба являются консультантами, прикладными социальными исследователями. Цель их деятельности – улаживать конфликты и выстраивать хорошие отношения между компанией и ее стейкхолдерами (с. 152). Цель книги в данном контексте состоит в том, чтобы описать и обосновать социальную технологию, которая, на взгляд авторов, позволяет выстраивать отношения систематически и весьма успешно.
Структуру основного для книги рассуждения можно реконструировать так: чтобы способствовать развитию сотрудничества, которое будет полезно и компании, и стейкхолдерам, и чтобы минимизировать вероятность утраты социальной лицензии, компании, с одной стороны, нужно понимать точки зрения разных стейкхолдеров: какие вопросы их беспокоят и что они готовы в связи с этим предпринимать. Это, в свою очередь, требует понимания различных взглядов (часто укорененных в истории и социальных институтах принимающего проект общества) на правомерность, справедливость и на то, чем обеспечивается доверие, поскольку именно в рамках этих представлений стороны оценивают действия друг друга. С другой же стороны, важно оценить, как устроены связи между стейкхолдерами в сети – влиятельность, альянсы и противостояния. Сопоставление данных о связях между стейкхолдерами и данных о беспокоящих их вопросах позволяет ранжировать возможные направления деятельности и рекомендовать конкретные действия, которые могли бы повысить уровень доверия к компании. В рамках деятельности конкретной организации все описанные выше действия и шаги должны превратиться в воспроизводимые, итеративные, управляемые рабочие процессы (“процессы понимания”), совместимые с другими процессами бизнес-менеджмента, что, в свою очередь, предполагает их квантификацию.
Для достижения своей цели авторы делают две вещи: описывают устройство предлагаемой технологии и демонстрируют результаты ее применения компанией Минера Сан-Кристобаль в Боливии. При этом главы с историческим или околоэтнографическим материалом, призванные дать читателю представление о том, что именно происходило между компанией и боливийскими стейкхолдерами, или объяснить, почему то, что происходило, происходило именно таким образом, перемежаются с главами, посвященными процедурам измерения социальной лицензии и трансляции полученного знания в конкретные действия со стороны компании. Такое чередование делает работу интересной разным аудиториям с нескольких сторон.
Например, для читателей, связанных с академической антропологией добычи, интерес могут представлять эмпирические материалы, история взаимоотношений между компанией, людьми и государством. В эмпирических главах прослеживаются все этапы этой истории: геологоразведочные работы, начавшиеся в 1994 г. (гл. 6), этап строительства (2004–2006 гг., гл. 7) и почти десятилетний период эксплуатации (до 2015 г., гл. 8–9, 11); также присутствует несколько отдельных сюжетов – трудоустройство женщин (гл. 13) и проблемы с “переселением” лам (гл. 14). Все это позволяет составить хорошее представление и о социальных последствиях добычи, характерных для разных этапов жизненного цикла предприятия, притом не только для Боливии, а почти для любых добывающих проектов, реализующихся в развивающихся странах (напр., обучение и найм рабочей силы, рост доходов как работников из числа местных жителей, так и местных бюджетов – за счет налогов, неравенство, инфляция, фракционализм в местном сообществе, смена элит), и об общем направлении социальных изменений при хорошем развитии отношений. Авторы считают свой кейс успешным: проблемы относительной бедности (высокая детская смертность, низкая ожидаемая продолжительность жизни, беспокойство о доступе к питьевой воде, водопроводу и канализации) уступили место проблемам относительного богатства: неравенство, алкоголь, наркотики, утрата “традиций”, беспокойство о доступе к качественному образованию, здравоохранению, благоустроенной городской среде, работе, требующей высокой квалификации.
Для того, чтобы объяснить, почему события развивались именно так, как они развивались, авторы, с одной стороны, делают весьма интересные отступления в историю испанской колонизации плато Альтиплано (гл. 3) и историю Боливии ХХ в. (гл. 4), с другой стороны, предлагают использовать своеобразную теоретическую модель, ставящую в центр отношений между различными сторонами их понимание того, что такое справедливость (гл. 2). А именно, авторы выделяют два принципа: “справедливо распределять все поровну” – разница в доходах несправедлива, процедуры должны соответствовать нормам и традициям, действия сторон должны быть направлены на поддержание отношений; и “справедливо учитывать заслуги” – можно и нужно получать больше, если делаешь больше или что-либо более важное, монополизация и фаворитизм несправедливы, процедуры должны соответствовать законам и инструкциям, действия сторон должны быть направлены на выполнение условий соглашения (с. 14). Первый принцип авторы приписывают сообществам департамента Потоси (как представляется авторам, он уходит корнями в эволюционное прошлое человеческого вида, в институты, отражающие реальность небольших сообществ, в которых выживание каждого зависит от общего блага коллектива), второй – добывающей компании Минера Сан-Кристобаль (он реализует бюрократический идеал, сложившийся в Англии XVII в.).
В качестве аналитических инструментов описанные принципы довольно логичны и просты и обладают некоторым эвристическим потенциалом, однако применение их авторами не лишено теоретических недостатков. Так, чтобы всерьез утверждать, что коллективы, живущие на плато Альтиплано, в XX–XXI вв. руководствуются в повседневных взаимодействиях так описанным принципом равенства, необходимо довольно серьезное этнографическое исследование. Не меньшая работа нужна, чтобы показать действие меритократического принципа в условиях конкретной добывающей компании. Такая работа авторами не была проделана, читатель также не найдет в книге ссылок на релевантные этой теме антропологические исследования.
Эту теоретическую неопрятность хочется объяснить привычкой авторов решать прикладные задачи: когда удовлетворительная объяснительная модель найдена (удовлетворительная с точки зрения ориентации деятельности), ее детальная проработка и валидация теряют первостепенное значение. Возможно, практикующим специалистам такие недостатки не покажутся существенными. Скорее всего, им будет более интересна концептуализация социальной лицензии, объяснение того, как ее измерять и как затем разрабатывать на основе полученных результатов рекомендации для деятельности компании.
Под социальной лицензией на деятельность (СЛД) понимается уровень терпимости, принятия или одобрения работы организации стейкхолдерами, наиболее озабоченными этой деятельностью (с. 42). Компанию более всего интересует заблаговременное выявление тех стейкхолдеров, которые готовы “отозвать” свою лицензию, т.е. организовать или принять участие в действиях, прерывающих функционирование предприятия (стачки, блокады, протесты, саботаж, иски в суд). Технология авторов предполагает регулярный (каждые 15 месяцев) сбор данных о стейкхолдерах по трем направлениям: 1) измерение уровня СЛД стейкхолдеров (он оценивается как степень их согласия с рядом утверждений об отношениях с компанией, напр.: “У нас и у компании сходные представления о том, как должен развиваться регион”, “В отношениях с нами компания выполняет то, о чем говорит”, “Мы чувствуем пользу от присутствия компании” [с. 104]); 2) выявление в ходе открытых интервью беспокоящих стейкхолдеров вопросов – в частности, о том, каковы их надежды и страхи, как они оценивают деятельность компании, что, по их мнению, надо делать и что они (их организация или группа) делают; интервью затем расшифровываются и кодируются по тематике (напр.: инфраструктура, окружающая среда, рабочие места) и характеру высказываний (напр.: осуждение, похвала, фактическое утверждение, запрос, предложение); 3) оценка влияния, связей и уровня кооперации стейкхолдеров в сети, которая визуализируется в виде графа.
Сопоставление этих данных позволяет, как уже говорилось выше, предлагать компании направления деятельности, важные с точки зрения поддержания высокого уровня СЛД. Например, в 2009 г. основное беспокойство у стейкхолдеров вызывало неравенство в доходах между теми, кто связан с месторождением, и всеми остальными. Основная рекомендация состояла в том, чтобы способствовать сотрудничеству между четырьмя группами стейкхолдеров, у которых были некоторые планы и бюджеты для регионального развития, но которые до тех пор никак не координировали свои действия (с. 122). Результат этой деятельности сообщества ощутили спустя три года, когда комбинация региональных инициатив, запущенных упомянутыми группами стейкхолдеров, и возросшие цены на киноа позволили предпринимателям в агрохозяйственном секторе получить высокие доходы (с. 119).
В целом, как надеются авторы, их подход показывает, что можно систематически выявлять социополитические риски, используя исчислимые и верифицируемые данные и процедуры и затем на этой основе разрабатывать успешные планы действий (с. 127). И как таковой данный подход может быть интересен не только практикам в сфере отношений между компаниями и их стейкхолдерами, но также и академическим исследователям – хотя и с несколько иной стороны. А именно, занимающегося ситуациями добычи антрополога может интересовать, какие основания лежат за взглядом практиков на отношения и на то, как следует действовать. Например, одна из предпосылок авторов данной работы состоит в том, что, как правило, стейкхолдеры хотят от проекта экономического и социального развития, однако часто имеют различные взгляды на то, как оно должно выглядеть. Соответственно, суть стратегии должна состоять в том, чтобы увеличить способность сети стейкхолдеров соглашаться относительно некоторых общих целей и двигаться к ним независимо от проекта (с. 101). Другими словами, предложенная социальная технология предполагает определенную онтологию (как устроены “компании”, “организации”, “сообщества”), которая может быть отдельным предметом для рассмотрения.
Итак, работу Томсона и Бутильера можно охарактеризовать как компактную, но, благодаря структуре повествования, весьма насыщенную. Достоинствами являются лонгитюдность имеющихся в распоряжении авторов данных о взаимоотношениях между компанией и ее окружением и ясность изложения, недостатками – теоретическая неопрятность и лакуны в обосновании адекватности некоторых используемых концепций представленному материалу. Впрочем, недостатки эти могут быть нивелированы взглядом на работу как на материал для анализа или фокусированием внимания на предлагаемых авторами решениях поставленных задач. Книга может быть интересна как академическим исследователям, работающим в сфере антропологии добычи, так и всем, кто занимается прикладными вопросами, а именно социальными отношениями, складывающимися вокруг добывающих проектов.
References
- 1. Jacka J.K. The Anthropology of Mining: The Social and Environmental Impacts of Resource Extraction in the Mineral Age // Annual Review of Anthropology. 2018. Vol. 47 (1). P. 61–77. https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-102317-050156