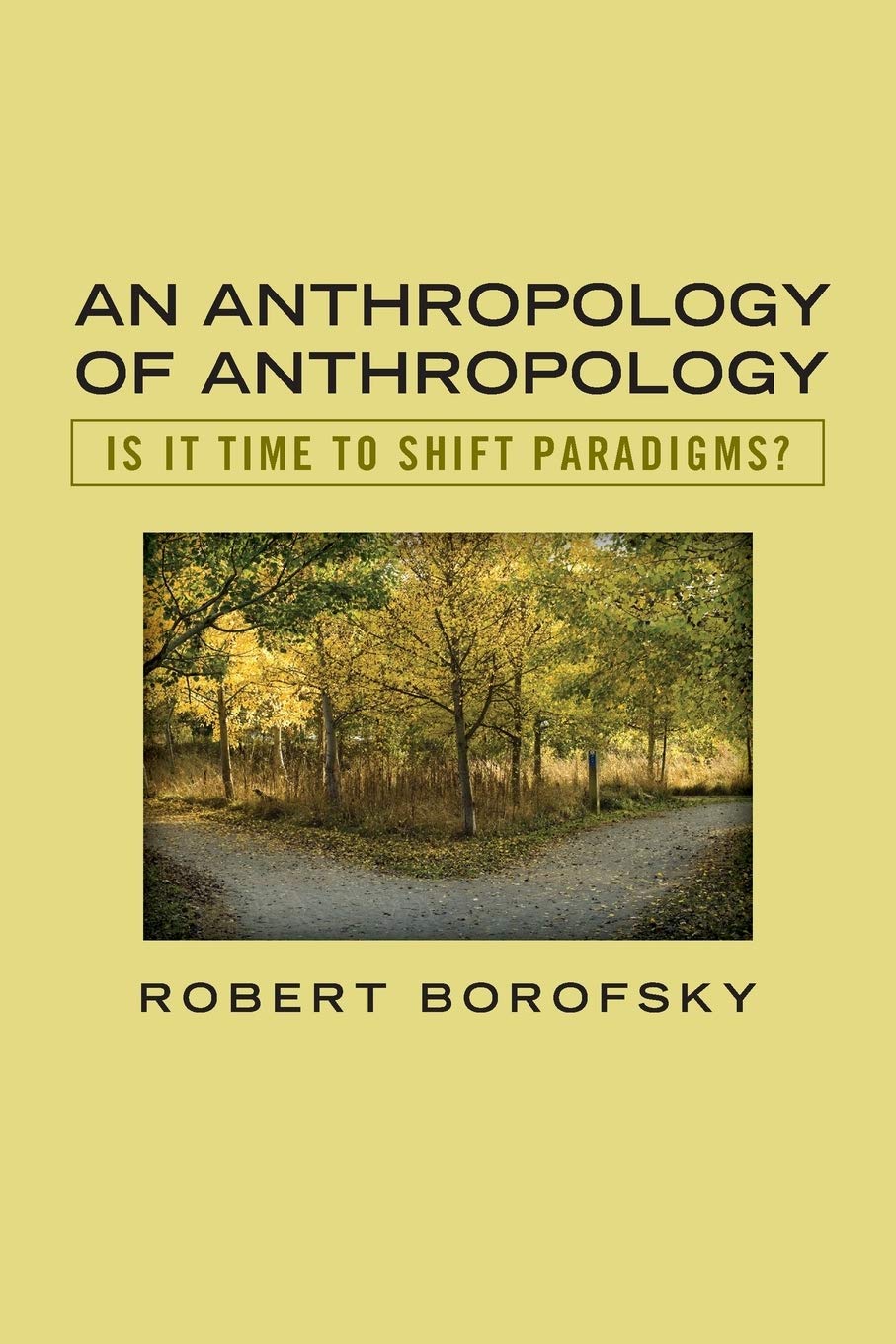- Код статьи
- S086954150017421-3-1
- DOI
- 10.31857/S086954150017422-4
- Тип публикации
- Рецензия
- Статус публикации
- Опубликовано
- Авторы
- Том/ Выпуск
- Том / №5
- Страницы
- 164-167
- Аннотация
- Ключевые слова
- Дата публикации
- 14.12.2021
- Год выхода
- 2021
- Всего подписок
- 6
- Всего просмотров
- 141
Четверть века назад Роберт Борофски издал шестисотстраничный сборник, часто цитировавшийся во второй половине 1990-х годов (Assessing Cultural Anthropology. N.Y., 1994), задачей которого было дать оценку текущему состоянию антропологии и продемонстрировать широту и разнообразие ее предметного поля. Ровно через 25 лет, теперь уже как автор, он опубликовал трехсотстраничную книгу “Антропология антропологии”, в которой оценил текущее состояние антропологии и констатировал, что центрального стержня, скрепляющего идентичность дисциплины, больше нет, как нет в дисциплине больше и единой творческой мотивации, кроме как всеобщей необходимости приводить научную деятельность в соответствие с количественными показателями научной эффективности. “Не пришло ли время для смены парадигмы?” – задается вопросом Борофски.
Конечно, Борофски не настолько наивен, чтобы говорить о том, что антропология пришла в некое состояние кризиса. В своем возрасте он прекрасно знает, что это специфическая дисциплина, которая из него не выходит никогда и в которой оценка собственного текущего состояния – это более или менее перманентное занятие. Поэтому, оговаривая задачи книги во вводной части, он не использует ни слова “кризис”, ни слова “оценка”. Задача книги, говорит он, – попытаться конкретно понять, почему все зашло туда, куда оно зашло, и каковы “структурные препятствия, которые, несмотря на благие намерения, тормозят развитие области, фрагментируя фокус ее интеллектуального внимания, ограничивая ее поддержку со стороны публики и ее значимость для публики” (p. 1). Заголовок “Антропология антропологии” Борофски также не связывает с тем жанром или рубрикой исследований, что часто носят название “антропологии академического сообщества”. В последних упор обычно делается на анализ жизни сообщества как, фигурально говоря, “жизни племени”. Борофски же больше стремится рассмотреть структуру антропологии как дисциплины в рамках общей организации сегодняшней научной жизни со всеми ее бюрократическими установлениями, отношениями власти, зависимости, финансирования, подчинения и т.д. Его больше интересует подход к анализу научной дисциплины и научного сообщества, предпринятый, например, в работе “Homo Academicus” П. Бурдьё, и Борофски сетует на то, что такой подход (где в центре внимания был бы интеллектуальный капитал, практики и их зависимость от власти на макро- и микро-уровнях), как ни странно, не получил большого развития в антропологии (p. 214). Возможно, в таком случае Борофски следовало бы озаглавить книгу “Социология антропологии” или каким-либо иным образом (хотя, с другой стороны, антропологи США слово “социология” в данном контексте тоже бы поняли не совсем так, как, скажем, представители французского научного сообщества; а книга Борофски все-таки нацелена именно на антропологическую аудиторию США).
Центральной линией, вокруг которой разворачивается аргументация в книге, выступает противопоставление двух “парадигм” (термин, используемый Борофски по примеру Т. Куна), противоборствующих в сегодняшней антропологии. Первую он называет фразой “не причини вреда” (“do no harm”); о второй он говорит как о “публичной”, или “общественной”, антропологии (“public anthropology”). Первая парадигма, по мысли Борофски, сегодня является доминирующей, и самое удивительное, замечает он, это то, что мы все, работающие антропологи, не заметили, как она вышла на главенствующие позиции в течение последних двух десятилетий. Принцип “не причини вреда”, взятый на вооружение как калька из языка врачебной и юридической практики, как раз в это время стал широко распространяться в деловой и корпоративной этике (во всяком случае – корпоративной риторике) как некая формально оговариваемая гарантия, что действия организации по умолчанию не нацелены на то, чтобы нанести вред или ущерб. Не миновал этот принцип и сферы научных организаций, которые сегодня по сути представляют собой те же корпорации. Однако надо ли говорить, что вместе с его распространением выросло и общее подозрение, что истинная цель принятия данного принципа – не столько в том, чтобы “не причинить вреда”, сколько в том, чтобы оградить корпорацию от ответственности (особенно ее высшие эшелоны, ее бенефициаров и спонсоров). Как в корпоративном, так и в научном мире, указывает Борофски, примечательно то, что строгость приложения этого принципа выстроена вертикально – можно сказать “директивно” – по направлению от руководства к средним и низшим слоям организации, которые “должны особенно избегать того, чтобы нарушать социальный порядок, дающий университету возможность функционировать” (p. 27).
Критически важный момент здесь, впрочем, в том, что сам фокус внимания оказывается практически полностью смещенным с объекта (которому не должно причинять вреда) на субъект (на поведение работника). Внешний объект, его интересы и заботы в этом уравнении больше не представляют интереса (коль скоро ему не нанесен ущерб); весь смысл в том, что данный принцип – это еще один инструмент, с помощью которого можно эффективно регулировать поведение и performance (если воспользоваться так хорошо уже знакомым всем клише) работника в организации.
В антропологии, где взаимоотношения между объектом (“изучаемым”) и субъектом (“этнографом”) всегда находились в центре дисциплинарной практики, этот сдвиг, замечает Борофски, выразился особенно болезненно. В дисциплине, в которой со времен Франца Боаса и Маргарет Мид этической позицией традиционно было “приносить пользу” тем, кого изучаешь, теперь официальной позицией стало формальное “не причинить вреда”. Данную смену позиции можно отчетливо проследить, пишет Борофски, если посмотреть на то, как менялась фразеология в кодексах этики Американской антропологической ассоциации, принятых и утвержденных в 1998, 2009 и 2012 гг. Если в кодексе 1998 г. все еще говорилось о “цели установления таких рабочих взаимоотношений, которые приносили бы пользу всем вовлеченным [в процесс исследований]”, то в кодексе 2009 г. акцент был поставлен на то, что “исследователи должны предпринимать все усилия к тому, чтобы не причинить вред безопасности, чувству собственного достоинства и частной жизни людей, с которыми они работают”, а в кодексе 2012 г. слово “вред” (“harm”) уже стало чуть ли не программным и повторялось много раз подряд: “Первичная этическая ответственность, разделяемая антропологами, – это не причинить вреда [harm]... каждый исследователь должен обдумать те стороны исследования, которые могут причинить вред [harm]. Наиболее серьезные виды вреда [harm], нанесения которого антропологи должны избегать, включают в себя ущерб [harm] чувству собственного достоинства, физическому и материальному благополучию...” (p. 138).
Парадигма “do no harm”, указывает Борофски, смогла так уверенно закрепиться, потому что на деле она структурно поддерживается прочным институциональным альянсом трех сторон: а) научные организации с их внутрикорпоративными интересами; б) тесно связанные с последними финансирующие структуры и грантодающие организации; в) тесно связанный и с теми и с другими академический публикационный бизнес. Эта триединая система, считает Борофски, направлена исключительно внутрь самой себя, сфокусирована исключительно на своем внутреннем функционировании. Критерии показателей эффективности, разработанные в этой триединой системе, больше не имеют никакого (кроме как косвенного) отношения к реальной пользе, приносимой исследованиями антропологов. Оценка труда антропологов производится на основе соответствия внутренним бюрократическим параметрам, которые важны лишь для обеспечения бесперебойного функционирования машины. Научный сотрудник набирает внутренние очки в своей организации, получая финансирование от утвержденного спонсора и отчитываясь о таковом с помощью публикации в утвержденном печатном издании. Абсолютное большинство сегодняшних публикаций антропологов не имеет никакого выхода во “внешний мир” – оно потребляется лишь в рамках этой триединой системы. Собственно говоря, все построено так, что доступа к ним по сути и не может получить никто, находящийся за рамками этой системы. Доступ к статьям могут получить лишь те привилегированные, которые включены в саму систему. Монографии же, публикуемые научными университетскими издательствами, по статистике, покупаются в основном лишь библиотеками тех же университетов в целях обслуживания образовательного процесса (p. 37). С тем, как система развивается, происходит все большая инфляция ее внутренних принципов. Требования к показателям результативности и числу публикаций завышаются; соответственно необходимо все большее число журналов, чтобы работникам было где опубликовать свои материалы в отчетных целях; соответственно идет взрывной количественный рост разнообразных редколлегий и рецензентов, в результате чего институт рецензирования, peer review, попросту перестает функционировать, поскольку почти каждый научный сотрудник теперь занят в нескольких редколлегиях, состоит рецензентом в десятках журналов и у него нет времени на объективную оценку представляемых работ (p. 38–39). Порядок и принципы самой этой оценки в последнее время претерпели существенные изменения, замечает Борофски. Ввиду того что большинству рецензентов приходится иметь дело со все более широким по охвату материалом, с которым они часто не знакомы так детально, как сам автор рецензируемой работы, они все чаще дают оценку работе, исходя из критериев цитирования (точнее, не-цитирования тех или иных авторов либо тех или иных трудов). “Автор не знаком с такими-то трудами” или “автор не упоминает того-то специалиста” – вот типичнейшие варианты вердиктов и оценок сегодняшних рецензентов. Когда-то в антропологии все было не так, рассуждает Борофски. Когда-то статьи рецензировали те, кто сами знали действительный материал, и когда-то в антропологии был важен сравнительный метод и вообще принцип кросс-культурного сравнения (т.е. рецензент иногда мог быть не знаком с конкретным местом или конкретной группой, но мог быть экспертом, проводившим аналогичное исследование в другой группе или другом месте, и сравнения такого рода всегда приносили пользу в антропологии). Принцип кросс-культурности, по мнению Борофски, в сегодняшних академических реалиях практически изжит и заменен политикой цитирования.
Парадигма “do no harm”, указывает Борофски, смогла так уверенно закрепиться, потому что на деле она структурно поддерживается прочным институциональным альянсом трех сторон: а) научные организации с их внутрикорпоративными интересами; б) тесно связанные с последними финансирующие структуры и грантодающие организации; в) тесно связанный и с теми и с другими академический публикационный бизнес. Эта триединая система, считает Борофски, направлена исключительно внутрь самой себя, сфокусирована исключительно на своем внутреннем функционировании. Критерии показателей эффективности, разработанные в этой триединой системе, больше не имеют никакого (кроме как косвенного) отношения к реальной пользе, приносимой исследованиями антропологов. Оценка труда антропологов производится на основе соответствия внутренним бюрократическим параметрам, которые важны лишь для обеспечения бесперебойного функционирования машины. Научный сотрудник набирает внутренние очки в своей организации, получая финансирование от утвержденного спонсора и отчитываясь о таковом с помощью публикации в утвержденном печатном издании. Абсолютное большинство сегодняшних публикаций антропологов не имеет никакого выхода во “внешний мир” – оно потребляется лишь в рамках этой триединой системы. Собственно говоря, все построено так, что доступа к ним по сути и не может получить никто, находящийся за рамками этой системы. Доступ к статьям могут получить лишь те привилегированные, которые включены в саму систему. Монографии же, публикуемые научными университетскими издательствами, по статистике, покупаются в основном лишь библиотеками тех же университетов в целях обслуживания образовательного процесса (p. 37). С тем, как система развивается, происходит все большая инфляция ее внутренних принципов. Требования к показателям результативности и числу публикаций завышаются; соответственно необходимо все большее число журналов, чтобы работникам было где опубликовать свои материалы в отчетных целях; соответственно идет взрывной количественный рост разнообразных редколлегий и рецензентов, в результате чего институт рецензирования, peer review, попросту перестает функционировать, поскольку почти каждый научный сотрудник теперь занят в нескольких редколлегиях, состоит рецензентом в десятках журналов и у него нет времени на объективную оценку представляемых работ (p. 38–39). Порядок и принципы самой этой оценки в последнее время претерпели существенные изменения, замечает Борофски. Ввиду того что большинству рецензентов приходится иметь дело со все более широким по охвату материалом, с которым они часто не знакомы так детально, как сам автор рецензируемой работы, они все чаще дают оценку работе, исходя из критериев цитирования (точнее, не-цитирования тех или иных авторов либо тех или иных трудов). “Автор не знаком с такими-то трудами” или “автор не упоминает того-то специалиста” – вот типичнейшие варианты вердиктов и оценок сегодняшних рецензентов. Когда-то в антропологии все было не так, рассуждает Борофски. Когда-то статьи рецензировали те, кто сами знали действительный материал, и когда-то в антропологии был важен сравнительный метод и вообще принцип кросс-культурного сравнения (т.е. рецензент иногда мог быть не знаком с конкретным местом или конкретной группой, но мог быть экспертом, проводившим аналогичное исследование в другой группе или другом месте, и сравнения такого рода всегда приносили пользу в антропологии). Принцип кросс-культурности, по мнению Борофски, в сегодняшних академических реалиях практически изжит и заменен политикой цитирования.