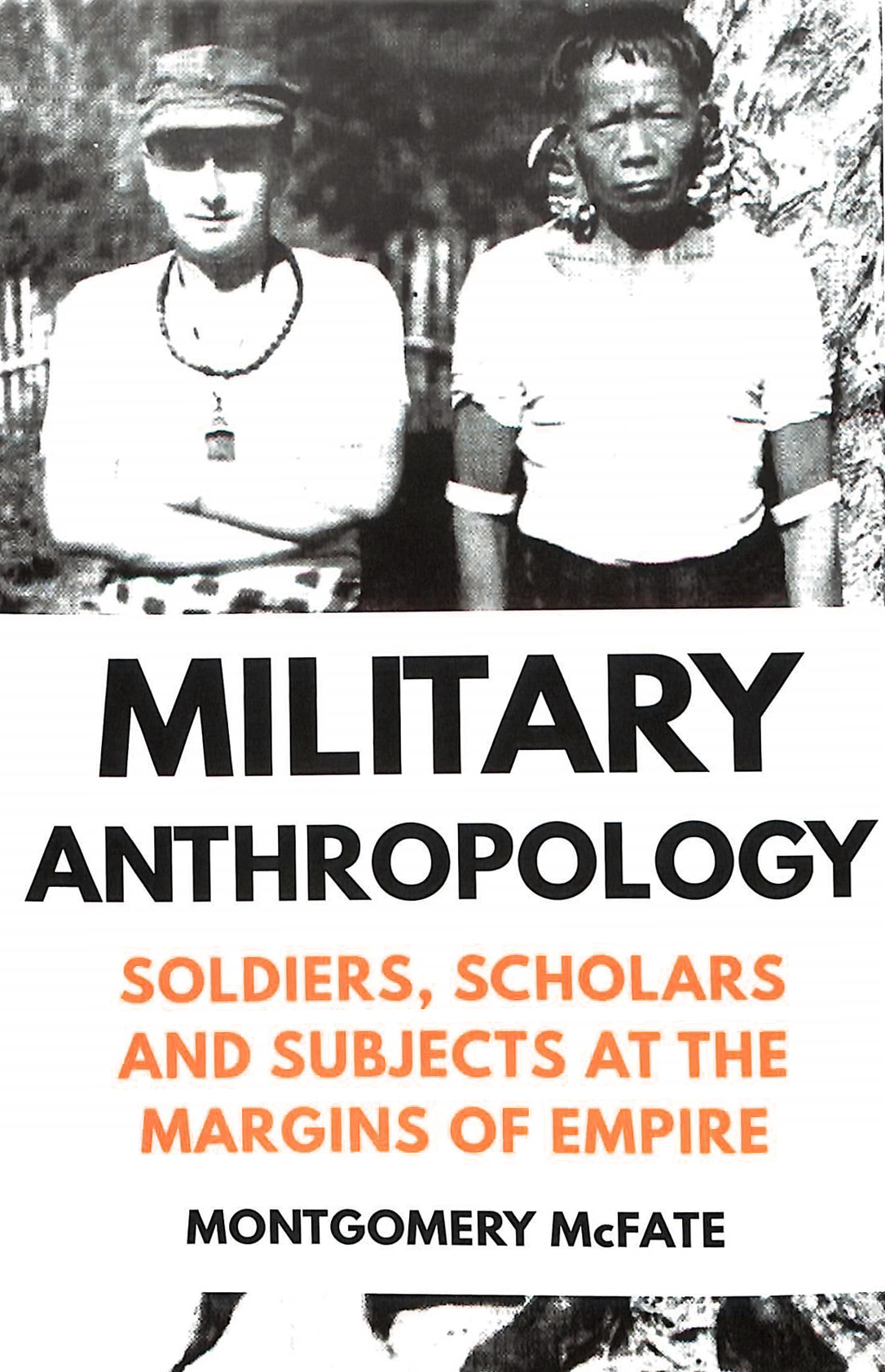- Код статьи
- S086954150017420-2-1
- DOI
- 10.31857/S086954150017421-3
- Тип публикации
- Рецензия
- Статус публикации
- Опубликовано
- Авторы
- Том/ Выпуск
- Том / №5
- Страницы
- 161-163
- Аннотация
- Ключевые слова
- Дата публикации
- 14.12.2021
- Год выхода
- 2021
- Всего подписок
- 6
- Всего просмотров
- 142
С одной стороны, будучи исторически “колониальной наукой” (McFate 2018: 48), антропология может использоваться государством для решения тех или иных прикладных задач. Но, с другой стороны, государство в процессе решения своих задач может создать “поле” для антрополога. Вопросов относительно этого “симбиоза” вроде бы быть не должно. Но они есть. И более чем вековая история прикладной военной антропологии служит ярким примером взаимного непонимания, нередко возникающего между научным сообществом и государством.
Монография Монтгомери Макфейт “Военная антропология: военные, ученые и объекты их исследований на окраинах империи”, на мой взгляд, является по-настоящему примечательной работой с точки зрения изучения не только истории прикладной военной антропологии, но и вопросов этики сотрудничества ученых и государства. И в последнем контексте интересна как сама книга, так и то, в какой момент времени она увидела свет. Более того, несмотря на то что большинство глав монографии посвящено британским антропологам, я практически убежден, что она нацелена прежде всего на американских читателей (косвенно автор подтверждает эту мысль, но об этом позднее).
Можно со значительной степенью уверенности утверждать, что началом достаточно активного сотрудничества Вооруженных сил США (далее – ВС США) и антропологов стала Первая мировая война (Дубровский 2019: 185–187). Но одновременно с решением практических вопросов применения культурной антропологии в военных целях развивалось в научных кругах и критическое отношение к самой возможности сотрудничества с ВС США. Поначалу Францем Боасом была высказана идея о недопустимости участия ученых в секретной деятельности. Затем, во время Второй мировой войны и в первое послевоенное десятилетие, возникла несколько иная точка зрения: антропологам необходимо определить этические границы применения дисциплины в государственных и военных целях.
Переломным стал рубеж 1960–1970-х годов. В этот период многие антропологи активно заявили о своей позиции, отказавшись сотрудничать с Вооруженными силами США, спецслужбами и государством. Как результат, в 1971 г. Американской антропологической ассоциацией были приняты “Принципы профессиональной ответственности”, которые с незначительными поправками до сих остаются этическим кодексом работы ученых – членов Ассоциации.
Но в первом десятилетии XXI в. этот “этический багаж” вызвал сомнения у тех американских антропологов, кто подверг критике политику США. Заявления о нарушении военными и государственными структурами этических норм дисциплины стали совмещаться с общественными протестами и призывами пытаться всеми силами влиять на принятие политических решений. Таким образом, в отдельных случаях борьба за соблюдение профессиональных принципов культурной антропологии стала частью борьбы за изменение приоритетов деятельности американского правительства. На рубеже XX–XXI вв. в США вышел ряд статей и монографий, в которых итоги сотрудничества ученых и государства за практически столетний период оцениваются в целом негативно. А в 2018 г. свет увидела монография Монтгомери Макфейт, предлагающая действительно новый взгляд на проблемы этого векового взаимодействия.
Хотя автор разделила книгу на девять примерно равных по объему глав, я бы провел условную черту между выполняющей роль введения первой главой и остальным текстом. Большая часть монографии – описание примеров сотрудничества разной степени успешности между антропологами и военными: каждая глава – конкретный кейс, который может быть интересен и как отдельная история сама в себе. Макфейт старается актуализировать эти примеры, проводя аналогии между прошлыми конфликтами и боевыми действиями ВС США в Ираке и Афганистане. При этом автор отмечает, что в книге нет описания конкретных ситуаций сотрудничества антропологов и представителей вооруженных сил в ходе последних военных кампаний. Прошло слишком мало времени, отмечает Макфейт, чтобы можно было объективно оценить последствия такого “содружества” (с. 21). Намек на будущие исследования? Возможно.
Так, например, в главах о Джеральде Хики и Доне Маршалле (1 и 8 гл. соответственно) проводится, на мой взгляд, удачная параллель между действиями США во Вьетнаме и в Ираке: и там и там военные оказались несостоятельны в вопросах взаимодействия с местным населением (с. 398). Как итог – военные победы над противником не привели к построению конструктивных отношений с гражданским населением из-за элементарного неумения (нежелания?) понять местных.
Как я уже отметил, наиболее важной частью монографии мне кажется введение, т.к. здесь автор задает характеризующий основные проблемы взаимодействия антропологов и военных вопрос: почему до сих пор на уровне планирования военных операций не учитывается такая переменная, как отношения с местным населением? Макфейт дает, как мне кажется, “классический” ответ на него: взгляды военных и ученых на применение социокультурных знаний в боевых условиях радикально отличаются. Военные не понимают, зачем им в принципе нужны антропологи, а многие антропологи разделяют антивоенные настроения, поэтому не заинтересованы в работе на военных (с. 14). Выход из этого замкнутого круга, вероятно, возможен только в том случае, если одна из сторон откажется от своих взглядов. Макфейт выделила три основных причины, которые чаще всего мешают сбалансировать отношения с местным населением в ходе конфликта: 1) экспорт западных культурных моделей; 2) ошибочность восприятия местных реалий; 3) применение заведомо провальных методов построения этих отношений. Найти выход из ситуации, считает Макфейт, крайне важно, поскольку, как она справедливо отмечает, проблема взаимодействия военных с местным населением в обозримом будущем не исчезнет, так что в той или иной степени сотрудничество с антропологами будет продолжаться (с. 58).
И здесь я хотел бы обратить внимание на то, в какое время была написана и опубликована монография, и в этой связи – к оценке Макфейт сотрудничества ученых и ВС США. С конца 1960-х годов значительная часть американских антропологов рассматривает взаимодействие с военными как что-то недостойное и совершенно неприемлемое. В этот период в научном сообществе сформировалось стремление “обелить” антропологию (считавшуюся наследием “колониальной” науки), чтобы она воспринималась “чистой” наукой, чем-то вроде механизма защиты угнетаемых народов. Это были годы американского военного присутствия во Вьетнаме, и они были отмечены повышением политической активности многих представителей социальных дисциплин (с. 48–49). В некоторой степени негативное отношение научной общественности сохранялось и в начале иракской и афганской кампаний ВС США: обе войны многими рассматривались как несправедливые, а соответственно, не могло быть никакого оправдания сотрудничеству антропологов с военными (с. 51).
Макфейт подходит к этой проблеме очень нетрадиционно и, как я уже отметил в названии рецензии, в некоторой степени “неоконсервативно”. Она считает, что каждый конкретный антрополог не может повлиять на внешнюю политику государства (он может постараться лишь минимизировать последствия ошибок, участвуя в планировании военных операций), так же как солдаты и командиры не могут нести личной ответственности за развязывание того или иного конфликта, – однако научное сообщество может и должно оказать посильную поддержку и военным, и местным жителям, чтобы по возможности сохранить им жизни (Ibid.). Таким образом, автор высказывает весьма нестандартную для современной американской прикладной военной антропологии мысль: вместо отказа от сотрудничества с военными ученым следует стремиться к совместной работе с ними. Именно стратегия сотрудничества, а не самоустранение антропологов от “работы на государство” является, по мнению Макфейт, наиболее жизнеспособной и выигрышной, если говорить о “защите угнетаемых народов”; именно она (эта стратегия) позволит “очистить” антропологию от “колониального наследия”, но не отказываясь от него полностью, а тщательно анализируя более чем вековой опыт взаимодействия ученых и военных. Примеры такого сотрудничества и анализ накопленного опыта помогут избежать ошибок прошлого в будущих военных конфликтах.
Макфейт подходит к этой проблеме очень нетрадиционно и, как я уже отметил в названии рецензии, в некоторой степени “неоконсервативно”. Она считает, что каждый конкретный антрополог не может повлиять на внешнюю политику государства (он может постараться лишь минимизировать последствия ошибок, участвуя в планировании военных операций), так же как солдаты и командиры не могут нести личной ответственности за развязывание того или иного конфликта, – однако научное сообщество может и должно оказать посильную поддержку и военным, и местным жителям, чтобы по возможности сохранить им жизни (Ibid.). Таким образом, автор высказывает весьма нестандартную для современной американской прикладной военной антропологии мысль: вместо отказа от сотрудничества с военными ученым следует стремиться к совместной работе с ними. Именно стратегия сотрудничества, а не самоустранение антропологов от “работы на государство” является, по мнению Макфейт, наиболее жизнеспособной и выигрышной, если говорить о “защите угнетаемых народов”; именно она (эта стратегия) позволит “очистить” антропологию от “колониального наследия”, но не отказываясь от него полностью, а тщательно анализируя более чем вековой опыт взаимодействия ученых и военных. Примеры такого сотрудничества и анализ накопленного опыта помогут избежать ошибок прошлого в будущих военных конфликтах.
Библиография
- 1. Дубровский В.В. Взаимодействие антропологов и Вооруженных сил США в XX – начале XXI в. // Этнографическое обозрение. 2019. № 2. С. 185–200.