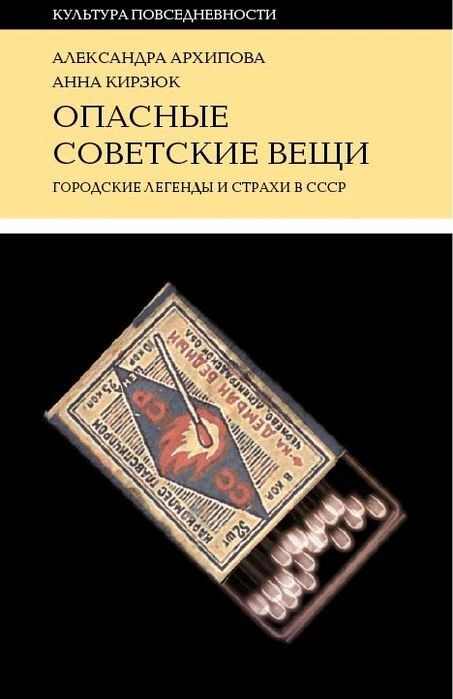- Код статьи
- S086954150016712-3-1
- DOI
- 10.31857/S086954150016711-2
- Тип публикации
- Рецензия
- Статус публикации
- Опубликовано
- Авторы
- Том/ Выпуск
- Том / №4
- Страницы
- 215-219
- Аннотация
- Ключевые слова
- Дата публикации
- 28.09.2021
- Год выхода
- 2021
- Всего подписок
- 6
- Всего просмотров
- 189
Монография А. Архиповой и А. Кирзюк “Опасные советские вещи: Городские легенды и страхи в СССР” заставляет задуматься о взаимосвязи слухов и самосохранения государства. Являются ли слухи и легенды показателем идеологического надлома в обыденном сознании? Или это повседневность бытия? Какова должна быть роль государства: пассивный наблюдатель или творец слухов, необходимых для стабилизации настроений? Вопросы, которые не уходят с повестки дня, более того, актуализируются в связи с ростом ностальгии по советскому времени. На противоположных полюсах есть объяснения и политиков, и обывателей, что превращает вопросы общественного дискурса в один из аспектов проблемы сохранения Российской Федерации.
Авторы не рассматривали собранный ими материал с такой политической точки зрения, подчеркивая, что их работа – первое антропологическое и фольклористическое исследование, посвященное страхам советского человека (с. 4). Но именно предлагаемый нами ракурс очень важен для тех, кто занимается вопросами информационной безопасности государства. Дело в том, что монография обращает внимание читателей не на часто анализируемые геополитические, экономические, правовые, идеологические факторы, а на реалии социальной психологии, формируемой в том числе на основе легенд. Неслучайно книга издана в серии “Культура повседневности”. Добавим к этому – исследование выполнено на солидной методологической и эмпирической базе.
Для А. Архиповой и А. Кирзюк “городская легенда – это тот же слух”. “Если кратко, то различие между ними состоит в том, что слух представляет собой короткое сообщение, а городская легенда – более или менее развернутый рассказ” (с. 7). В книге приведен обширный перечень слухов и легенд (с. 474–486).
Методологически точно замечание авторов: “Избирательность памяти приводит к очень интересному эффекту. Людям свойственно не только верить своим воспоминаниям, но и генерализировать свой собственный опыт постфактум: многие, оглядываясь в прошлое, полагают, что все их современники чувствовали и думали то же самое по поводу тех или иных событий, пели те же самые песни, читали те же самые книги и вели те же самые разговоры” (с. 72).
Действительно, даже исследователям такой темы очень трудно пройти по “лезвию ножа”, не скатившись к обобщениям с позиций той социальной группы, в которой состоялась их первичная и вторичная социализация, особенно когда изучаемая ими историческая эпоха мифологизирована и разлом проходит по идеологическим основаниям. Возможность избежать клише при оценке прошлого есть только у того, кто имеет смелость сказать научно обоснованное “нет” в своей референтной группе.
А. Архипова и А. Кирзюк называют еще одну причину “коррекции” оценок: “Наше представление о реальности состоит из того, что мы о ней помним” (с. 467). Неслучайна реакция тех, с кем общались ученые: “…если одни наши собеседники, бывшие жители СССР, наперебой вспоминают истории о жвачках, коварно отравленных иностранцами, или об американских джинсах со вшами, то другие с недоумением пожимают плечами и говорят, что никогда не слышали подобной чуши” (с. 5).
У “медали” под названием “слухи” есть две стороны: борьба с ними и создание их. В зависимости от конкретной ситуации “лицевой” может быть и та, и другая. “Лицо” определяет для себя сам субъект – производитель легенд/слухов, их адресат или их исследователь. В первой главе “Что такое городская легенда и зачем ее изучать?” авторы дают достаточно подробный анализ методов работы западных ученых, вписывая в раздел аналогичные слухи советского прошлого. Изучение этих источников позволяет сформулировать пул методологий: “интерпретативный подход: легенда как симптом или лекарство”, “меметический подход: легенда как вирус и возбудитель эмоций”, “операциональный подход: как воздействует легенда” (с. 14–48). То, что за рубежом раньше начали заниматься исследованием социальной роли легенд и слухов, понятно – рыночная экономика основывается на конкуренции и рекламе: без легенд не обойтись.
По мнению авторов, при любом подходе легенда “представляет собой форму ответа на социальное напряжение, становится альтернативой формулировке социальных требований…, указывая на вымышленную угрозу, легенда помогает обществу справляться с реальной психологической проблемой – с тревогой, которая до появления легенды была неясной и недифференцированной” (с. 30). На наш взгляд, такая формулировка сужает причины появления и распространения слухов: совсем не обязательно, чтобы угроза была вымышленной, и ниже мы продемонстрируем это на конкретных примерах.
Для А. Архиповой и А. Кирзюк “совершенно не важно, лежал ли в основе истории реальный факт или нет. Важно другое: почему они повторяются вновь и вновь и принимают при этом определенную форму” (с. 305). Не уверена, что позицию игнорирования исторических/социальных оснований разделяют все антропологи и фольклористы, да и сами авторы не всегда верны такой установке, что подтверждается названием третьей главы: “Как легенда стала идеологическим оружием”. Для социолога же такая точка зрения в принципе невозможна, поэтому попытаемся определить источники слухов/легенд, взяв типичные из классификации авторов.
Серия слухов об иностранцах: «Иностранцы из стран “третьего мира” являются носителями опасной телесной нечистоты и могут заражать ею места общего пользования. Время появления: эпизодически в 1940-е годы, затем регулярно в конце 1970-х и в 1980 году, во время Олимпиады» (с. 476–476). Эта легенда – результат отражения в обыденном сознании медицинских открытий о вирусо-микробной природе болезней, а именно возможности передачи их бытовым путем. К олимпиадам, чемпионатам мира начинают готовиться не только спецслужбы, но и медики, что позволяет избежать всплеска экзотических для принимающей стороны заболеваний. Естественно, что это знание при тиражировании неспециалистами принимает форму слухов.
“Американцы делают в общественном транспорте советским гражданам микроуколы с возбудителями различных болезней” (с. 339–340). И вновь был прецедент, но не “американского производства”. Накануне Олимпиады 1980 г. за один день три десятка женщин с уколами неизвестного происхождения в шею, в плечо, в спину обратились в институт Склифосовского. Оказалось, так развлекались, стреляя из рогаток металлическими скобками, установщики неоновой рекламы, за что получили тюремные сроки (Емельянов 2015).
Серия слухов “Внутренние враги вредят советскому человеку” (с. 481–482). Здесь варьируются легенды о заражении советских людей соотечественниками: “Больные опасными болезнями стремятся заразить советских людей. Время распространения: 1950–1980-е годы”. За этим сюжетом есть объективные основания: психологические особенности опасно болеющих людей. О зафиксированных случаях стремления “увести” за собой других, и знакомых, и незнакомых, нам рассказывали преподаватели на занятиях, готовя в медсестры запаса, задолго до появления понятия “СПИД”. Вероятность выживания вирусов, бактерий, паразитов и т.д. вне среды их обитания не велика, но она есть.
Серия “Опасная еда, одежда и продукты гигиены”: “Советская женщина покупает импортную косметику (помаду, пудру, тени), от которой ее лицо покрывается прыщами (синеют губы, облезает кожа и т.п.). Так происходит потому, что в импортную косметику добавляют вредные субстанции (клей, свинец, цинк, мышьяк). Время распространения: конец 1980-х (нет в книге, зафиксировано в опросах или в интервью)” (с. 486). Дело в том, что после отмены государственной монополии на внешнюю торговлю из-за рубежа в СССР стали импортировать польскую (и не только) косметику (одежду, обувь) для покойных, но продавали ее, не предупреждая покупателей о предназначении. Даже косметологи вначале не могли понять причину того, что привезенная для них из-за границы импортная (!) косметика дает такой эффект.
Из этой же серии: «Ношение американских джинсов вызывает различные болезни – бесплодие, импотенцию, сжатие тазовых костей, из-за которого потом женщина не может родить, “джинсовый дерматит”» (с. 304–305). Причина вполне объективна. Влияние тепла на сперматогенез известно давно. Повышая температуру с помощью специальных накладок вокруг яичек животных, скотоводы вызывали бесплодие у самцов для увеличения их веса и предотвращения неприятного запаха у мяса. Во второй половине ХХ в. изменения сфер занятости (зарождение “офисного планктона”) и плотная одежда создали проблему половых дисфункций у мужчин, в том числе бесплодия. Женщины же отказались от зимнего теплого нижнего белья “с начесом”, что привело к гинекологическим заболеваниям и бесплодию.
Авторы справедливо замечают, что многие сюжеты возникают “при появлении каких-то реальных технических новинок, по поводу которых покупатели испытывают определенные подозрения” (с. 403).
Но все ли слухи так безобидны и нацелены на предупреждение заболеваний, сохранение приватной информации? Нет, есть и иные. Создание легенд/слухов, распространение которых было инициировано “сверху” и в зарубежных странах, и в СССР, анализируется авторами во всех главах. Советская городская легенда “… начиная с 1960-х годов не только рассказывалась на кухнях и в очередях, но и стала орудием отчаянной идеологической борьбы” (с. 160).
А. Архипова и А. Кирзюк приводят примеры преследований за слухи, частушки на политическую тему. В 1966 г. принимается «статья 190-1, предусматривающая наказание “за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй”» (с. 173), но справедливости ради заметим, что далеко не все и не всегда несли наказание.
Иначе говоря, всегда есть неконтролируемые властью субъекты, создающие слухи (которые сегодня стали называть фейками) для управления обществом и борющиеся с ними с той же целью. На первый взгляд, чаще побеждает государство, имеющее законы и соответствующие органы, следящие за их исполнением, но этот вывод будет преждевременным. Авторы приводят немало примеров того, как анонимы, действовавшие в целях решения реальных социальных проблем, предлагали рецепты, основанные на слухах, но быстро “вычислялись” соответствующими органами. Показателен случай, когда тракторист написал в Политбюро письмо о «тайной еврейской жене Сталина, которая “на самом деле” подчинила себе вождя и всем заправляет, и о евреях, которые хотят погубить русский народ» (с. 9). Аноним был выявлен, но сам факт письма свидетельствует об убедительности слуха для его автора.
На подобных примерах А. Архипова и А. Кирзюк убедительно показывают двойственную функцию слухов: они решают сразу две задачи – “понятное и непротиворечивое объяснение ситуации и одновременное указание, на какой объект можно направить накопившийся гнев” (с. 9). В подтверждение приведем воспоминания В.И. Новодворской: беседа со школьным словесником сформировала из нее диссидента, посвятившего жизнь борьбе со страной, в которой она родилась: «… услышала “что живу в такой страшной стране, что если бы на нее упала атомная бомба и убила нас всех, но уничтожила и строй, это был бы желанный выход”» (Новодворская 1998: 22).
Вот на этой двойственной функции слухов остановимся подробнее. Авторы пишут: “Слухи и городские легенды, в том числе и страшные истории, возникают и распространяются потому, что люди в них нуждаются. Вся наша книга по сути посвящена трем вопросам: как в СССР возникали тексты об опасных вещах, объектах и явлениях, по какой причине они становились популярными и как они влияли на поведение людей” (с. 9).
Предметом исследования авторов чаще становятся отечественные примеры. Поэтому к месту напомнить, что за рубежом активно шла практическая работа по манипуляции общественным мнением в собственных и зарубежных странах. В 1979 г. была издана, а вскоре переиздана монография доктора исторических наук Н.Н. Яковлева “ЦРУ против СССР”. В ней раскрывались “смысловые точки” механизма воздействия на советских людей в ходе психологической войны: это убеждение их, что западный мир дорожит теми же ценностями, которые лежат в основе традиционного русского менталитета, что между человеком из западных стран и СССР очень много общего, именно поэтому США помогали СССР и во время Второй мировой войны, и после нее, делясь техникой, знаниями, опытом… Официальная же пропаганда в СССР вводит народ в заблуждение, приписывая коварные замыслы Западу, на деле человек там более свободен и желает такой же свободы (Яковлев 1983: 138–141). Но в целом ученые СССР/РФ отстали в изучении и противодействии формам психологической войны. Процитируем генерал-полковника, доктора исторических наук Л.Г. Ивашова: “На теорию социального программирования в 1966 году, за которую даже дали Нобелевскую премию, у нас не обратили внимания. А она объясняла, как переформатировать сознание людей, отвлечь внимание от космоса, от великих научных и промышленных целей, на потребительское сознание” (Угланов 2020).
Степень популярности слухов/легенд в разных регионах СССР уже не восстановить: из жизни ушли/уходят те, кто жил в годы, описываемые в монографии. Поэтому остается лишь сожалеть, что тема была поднята ретроспективно через десятки лет и уже не воссоздать роль слухов в формировании общественного мнения и разрушении Советского Союза.
Библиография
- 1. Яковлев Н.Н. ЦРУ против СССР. М.: Правда, 1983.