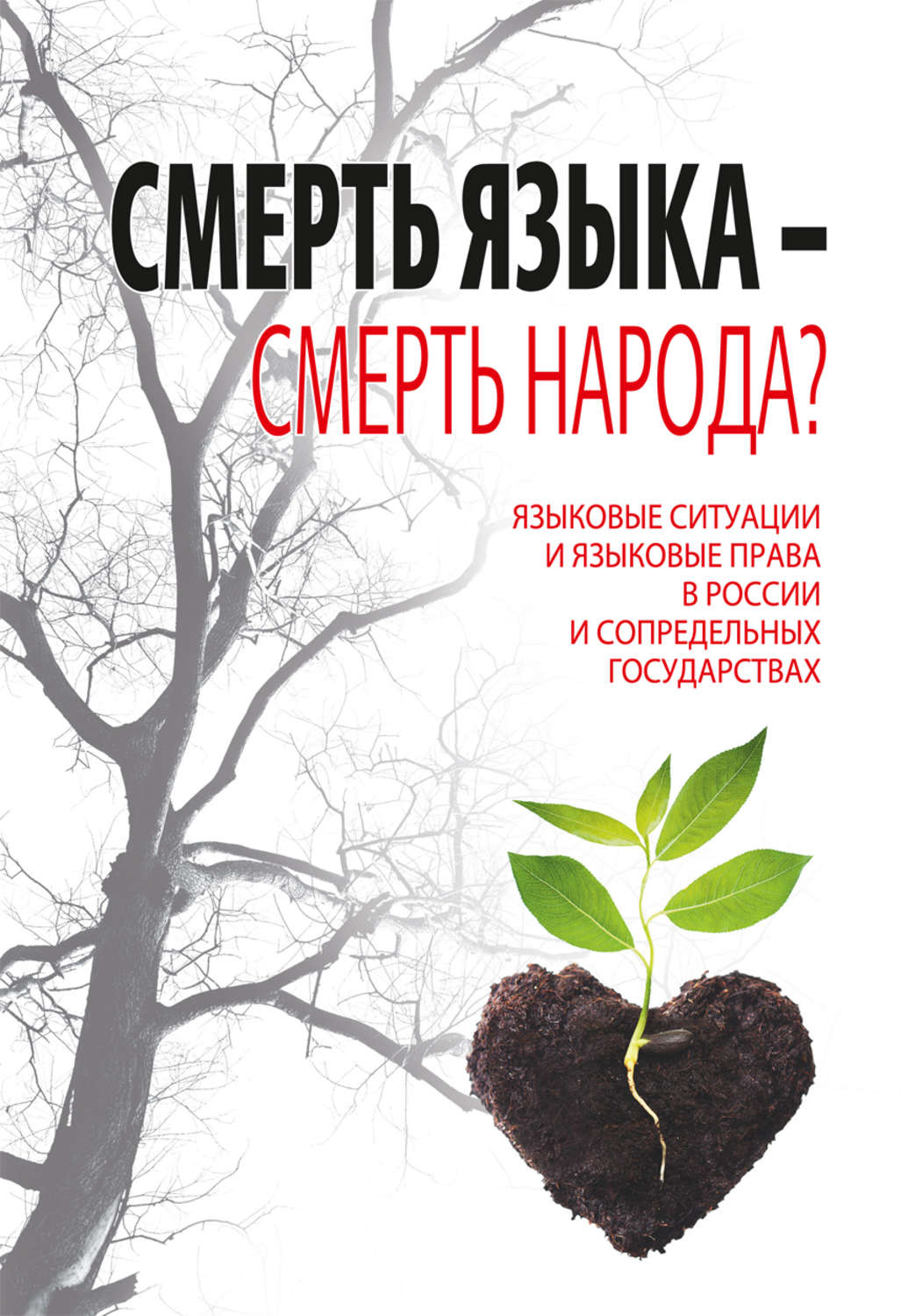- Код статьи
- S086954150016710-1-1
- DOI
- 10.31857/S086954150016710-1
- Тип публикации
- Рецензия
- Статус публикации
- Опубликовано
- Авторы
- Том/ Выпуск
- Том / №4
- Страницы
- 210-214
- Аннотация
- Ключевые слова
- Дата публикации
- 28.09.2021
- Год выхода
- 2021
- Всего подписок
- 6
- Всего просмотров
- 178
Значение языка в жизни этнических сообществ велико, ибо он является не только средством коммуникации, но и хранилищем накопленных предшествующими поколениями знаний, смыслов, мироощущений. Вместе с тем хорошо известно, что далеко не все народы обладают собственным этническим языком. К примеру, директор Института социальной антропологии в Галле Гюнтер Шлее отмечает, что “в то время как в некоторых случаях наименования этнических и языковых групп совпадают, на другом полюсе обнаруживаются хорошо определяемые с помощью иных критериев этнические единицы, которые не имеют ничего общего с языком” (Шлее 2014: 109). На положении языков отражаются политические и социальные изменения, происходящие в разных странах.
Распад СССР и Восточного блока в целом принято изображать как относительно бескровный процесс. Но в реальности на всем постсоветском пространстве и в странах бывшего социалистического лагеря идут постоянные гуманитарные войны: войны памяти и языковые войны, являющиеся отголосками потрясений конца ХХ столетия. Современные постсоветские элиты руководствуются идеей “язык – это власть”.
В России пока нельзя говорить о гуманитарных войнах, но о языковых конфликтах и политизации языкового образования упоминать приходиться постоянно. При этом во вводной статье к монографии, написанной С. Соколовским и Е. Филипповой, присутствует справедливое замечание об избыточной политизации языковых отношений во всех постсоветских государствах, а равно и в самой России (с. 6). Далее исследователи характеризуют общий подход к языковому образованию: «Некоторые современные лингвисты рассматривают обучение языку, независимо от того, является ли он доминирующим или миноритарным, как “сугубо идеологическое занятие”» (с. 8).
В идеологическом плане вся этнополитика в республиках, включая и языковое образование, является полем противостояния этничности и гражданства. Республиканские идеи свободы, равенства и справедливости, т.е. основополагающие идеалы гражданского общества, где государство и гражданин являются равными партнерами, обладают равными правами и несут равную ответственность друг перед другом за отстаивание общественного интереса, не были приняты и не стали нормой для местных политических элит; не находят они одобрения и у этнических активистов, многих местных интеллектуалов. Республики рассматриваются ими как символическая собственность только одних лишь титульных этнических сообществ, культурные ценности которых должны быть приоритетными, а потому могут навязываться всем остальным гражданам с помощью жесткого администрирования.
При этом большинство людей в своих личных жизненных стратегиях (включая выбор языка образования), как показывают многочисленные исследования, исходят из прагматических соображений, на что обращают внимание С. Соколовский и Е. Филиппова (с. 13).
На наш взгляд, центральное место в монографии занимает первая глава, которая построена в форме диалога между двумя видными экспертами. Такая форма презентации авторских взглядов интересна уже потому, что их позиции не совпадают по многим проблемам языковой политики, проводимой в РФ в целом и республиках в частности. В диалогах по сути отразились два основных подхода к анализу языковой политики: 1) анализ языка в контексте политики гражданской интеграции в России; 2) анализ языка как основного инструмента в деле сохранения и культивирования культурной отличительности этнических сообществ.
В качестве дискутантов выступили академик В.А. Тишков и известный языковед из Карачаево-Черкессии Х.М. Акбаев. Само название первой главы показательно: “Народ не умирает с языком или язык не живет без народа”? Сразу оговоримся, что мы склонны поддержать доводы академика В.А. Тишкова, поскольку обширный этнографический материал доказывает, что язык не есть единственный и главный инструмент формирования этнической идентичности. Эта идентичность формируется под влиянием многих обстоятельств и вполне успешно сохраняется в условиях полного отсутствия собственного языка у этнической группы. Мы согласны с тем, что определение родного языка – это прерогатива самого гражданина, и только его. При этом для этнических активистов и местных языковедов весьма характерны две прочно укоренившиеся этнокультурные позиции. Во-первых, это абсолютизация роли языка в жизни этнических сообществ. Во-вторых, – вольное или невольное позиционирование этой группы как морального цензора местных сообществ.
Многие языковеды склонны воспринимать языки с натурфилософских позиций, представляя их таким же образом, как и редкие виды животных и растений. Поэтому языковедами, в том числе и российскими, создаются “красные книги” языков, где сказано, что язык есть природное явление.
Судя по всему, Х.М. Акбаев склонен придерживаться примерно такой же точки зрения, ибо со ссылкой на Ноама Хомского он указывает: “коммуникативная функция языка – не главная, и причиной появления языковой способности у человека является биологически порожденный компонент” (с. 21). При этом Акбаев считает правовое признание равноправия языков “юридической абракадаброй”. Здесь, конечно, надо оговориться, что равенство и равноправие не есть синонимы, ибо равные права языков обеспечить сложно, поскольку реального равенства между языками нет и быть не может. Объясняется это тем, что в РФ между языками существует громадная разница по ряду критериев, среди которых: число носителей, уровень нормирования, степень развития лексики. С позицией Х.М. Акбаева по поводу того, что нельзя отождествлять этнический язык и государственный, следует согласиться, ибо очевидно, что у этнического и государственного языков разные функции и разное символическое значение. Равно как вполне убедительны и не требуют верификации доводы В.А. Тишкова в пользу того, что термин “русский национальный язык” некорректен, поскольку это и государственный язык РФ, и язык межнационального общения. Равно мы убеждены, что научному сообществу пора окончательно признать, что несовпадение родного языка и национальности есть устоявшаяся культурная норма в России, и нет смысла спорить по этому поводу.
Оба дискутанта согласились в одном важном для образовательного процесса вопросе, а именно: необходим более гибкий и вариативный подход к преподаванию литературы и истории.
Первая глава, наверное, не столько дает ответы на острые вопросы формирования и реализации языковой политики и построения практики языкового образования, сколько заставляет более глубоко осмыслить эти проблемы. Вторая глава, “Язык и школьное образование”, принадлежащая перу М.Ю. Мартыновой, и в ней обсуждаются конкретные этапы и методы внедрения мультикультурного образования в программы российской школы.
Автор сосредоточила внимание на анализе языкового образования, сформировавшегося в последние годы. Что касается сущности этого образования, то М.Ю. Мартынова замечает: «Поклонники регионализации основной целью образовательного процесса считают формирование человека – носителя традиций и обычаев своего народа, владеющего в совершенстве “родным” языком» (с. 48). Но, как отмечает автор, предложенная схема образовательного процесса все очевиднее стала приводить «к противоречию между локальным, в том числе этническим и надэтническим», а в наших исследованиях мы говорим об очевидном противопоставлении этничности и гражданства, присутствующем как в идеологии этнонациональных движений, так и в практике реализации региональной этнополитики.
Этнизация образовательного процесса диктует стремление сделать языки титульных этнических групп в республиках обязательными для изучения всеми школьниками, что провоцирует постоянные требования увеличения часов в школьных программах. Однако подобные требования плохо согласуются с культурными реалиями, которые имеют место в регионах, ибо не только в сфере публичных коммуникаций, но и во внутрисемейном общении (в первую очередь в городах) доминирует русский язык. Усугубляет положение тот факт, что местные языковеды, которым уже давно отдано на откуп право формировать практику языкового образования, готовить справочники, учебные пособия и т.д., помимо упования на обязательность изучения этнических языков, в последние два десятилетия занимались безудержным пуризмом, который, казалось бы, как культурная практика навсегда остался в XIX в. В результате в языки меньшинств были внедрены многие тысячи новых слов, хотя эти новации не имеют под собой ни исторической, ни языковой логики и подобный новояз серьезно осложняет овладение литературными языками детьми и его восприятие взрослыми.
Но, как отметил в предыдущей главе Х.М. Акбаев, сегодня существует угроза языковой ассимиляции меньшинств, а потому для сохранения их языков нужно активно совершенствовать методы обучения и способы презентации языка. К сожалению, об этой проблеме в данной главе сказано недостаточно, хотя ее решение лежит именно в плоскости школьного образования. Так, у нас очень мало пишется и говорится (в т.ч. и апологетами этнизации школьного образования в республиках) о семейной языковой политике. При этом всем очевидно, что не школа, а семья есть и должна быть главным транслятором культурных традиций, включая язык. Поэтому успех языкового образования может быть обеспечен только за счет тесного взаимодействия между официальной образовательной политикой и семейной языковой политикой, между школой и семьей. Именно таким путем в Шотландии возрождают гэльский язык, на котором теперь можно получить полноценное среднее образование, поскольку ему был присвоен официальный статус (Gaelic Language [Scotland] Act 2005); на этом языке можно успешно изучать все предметы школьного курса.
Безусловно, заслуживает внимания и более широкого обсуждения вариативность методов школьного и языкового образования в школах и образовательных учреждениях, где получают знания представители меньшинств. Так, на Ямале ныне возрождается почти забытая практика кочевых школ (пока скорее как образовательный эксперимент, хотя и весьма обнадеживающий). Для оленеводов становится сегодня все более приемлемым и метод удаленного обучения, который стал широко практиковаться в условиях пандемии. Сегодня у оленеводов в чумах есть спутниковые телефоны, ноутбуки с интернетом, а потому организовать обучение детей оленеводов дистанционно не представляет сложности, хотя здесь и есть своя специфика.
Существенным недостатком языкового строительства в республиках является и то, что ни в одной из них нет детально разработанных программ по формированию имиджа языков титульных этнических групп. Между тем в мировой практике языковой политики именно этому направлению уделяется особое внимание. В этих программах на первом месте стоит задача формирования общественного мнения о престижности языка, при этом тесно увязана с ней и задача так наз. языкового маркетинга – методики, призванной изменить языковое поведение носителей местных языков. Указанная методика представляет язык как своеобразный продукт из сферы общественного потребления, в продуманной рекламе которого отмечаются его преимущества и достоинства (Baker, Jones 1998).
Интересен и полезен также пример финляндских саамов, который показывает, что язык можно успешно развивать за счет его визуализации и коммодификации. Визуализация в первую очередь должна использоваться в интернет-ресурсах, на которые и ориентируется молодежь.
Коммодификация – это процесс, в ходе которого все большее число различных видов человеческой деятельности обретает денежную стоимость и фактически становится товарами, покупаемыми и продаваемыми на рынке (Burdick 2012: 1–43). Наиболее успешный пример использования этого метода для сохранения этнических культур и превращения их в привлекательный рыночный продукт – этнографический туризм. Вовлекаемые в процесс коммодизации саамские языки превращаются в ресурс оригинальности и аутентичности. Язык получает дополнительные ресурсы для развития, поскольку выступает в качестве “визитной карточки” региона. В рецензируемой монографии данный вопрос затронут в пятой главе, написанной И.Л. Бабич, где говорится о серьезных проблемах, связанных с изучением и сохранением языков причерноморских адыгов-шапсугов. Говоря об угасании интереса со стороны молодежи и населения в целом к языку (диалекту адыгского) этой этнической группы, автор указывает, что в Лазаревском и Туапсинском районах Краснодарского края активно развивается этнографический туризм, который весьма успешно способствует сохранению культурного наследия названной этнической группы, но язык в практику этнографического туризма никак не интегрирован. Видимо, данная проблема может стать предметом отдельного рассмотрения в будущем.
Третья глава (авторы О.Н. Подлесных, С.В. Соколовский) и четвертая (автор Б.А. Синанов) посвящены анализу языковой политики, которая на протяжении трех десятилетий реализуется в Татарстане и Северной Осетии-Алании. В них дан подробный анализ того, как формировалась эта политика. По своему содержанию эти главы схожи, так как обе они рассматривают языковые конфликты в Татарстане и Северной Осетии-Алании. Об идейной сущности таких конфликтов мы сказали выше. Но в Татарстане он наиболее политизирован, и “сутью конфликта является не угроза татарскому языку и его вытеснение из школьной программы, но закрепленное в Конституции право любого ученика на выбор языка образования, а также право родителей влиять на формирование программ обучения” (с. 77). Авторы отмечают, что свобода выбора языка трактуется в республиках как стремление федерального центра ущемить правосубъектность национальных республик.
Шестая глава (автор К.Г. Шаховцов) несколько выделяется на общем фоне тем, что она касается имплементации Европейской языковой хартии на примере одной из этнических групп, включенных в Единый перечень КМНС, утвержденный Правительством РФ в 2000 г., – селькупов. Сегодня селькупский язык еще имеет ресурсы для сохранения и развития. В этой связи автор предлагает рассчитать стоимость конкретных мер в сфере создания учебно-методической базы для преподавания селькупского языка, формирования образовательной инфраструктуры и организации самого учебного процесса изучения языка. Такой конструктивно-прикладной анализ не только интересен, но и показателен как для российских, так и для зарубежных экспертов.
Авторы монографии концентрируют внимание на России и сопредельных государствах. В седьмой и восьмой главах рассматривается ситуация на Украине и в Латвии (авторы А.А. Плеханов и С.В. Галактионов). В целом две последние главы являются удачным дополнением к остальным текстам, хотя исследователи и так уделили много внимания ситуации на Украине и в странах Балтии.
На наш взгляд, сегодня главная задача тех, кто озабочен положением языков меньшинств, состоит в поиске новых ресурсов, которые помогут их сохранению и развитию, и рецензируемая монография дает достаточно оснований для их поиска.
Библиография
- 1. Шлее Г. Управление конфликтами: теория и практика. М.: Deutsch-Russischer Austausch, 2004.
- 2. Baker C., Jones S.P. Encyclopedia of Bilingual and Bilingual Education. Clevedon: Multilingual Matters, 1998.
- 3. Burdick Ch. Mobility and Language in Place: A Linguistic Landscape of Language Commodification // CHESS Student Research Reports. 2012. No. 7.