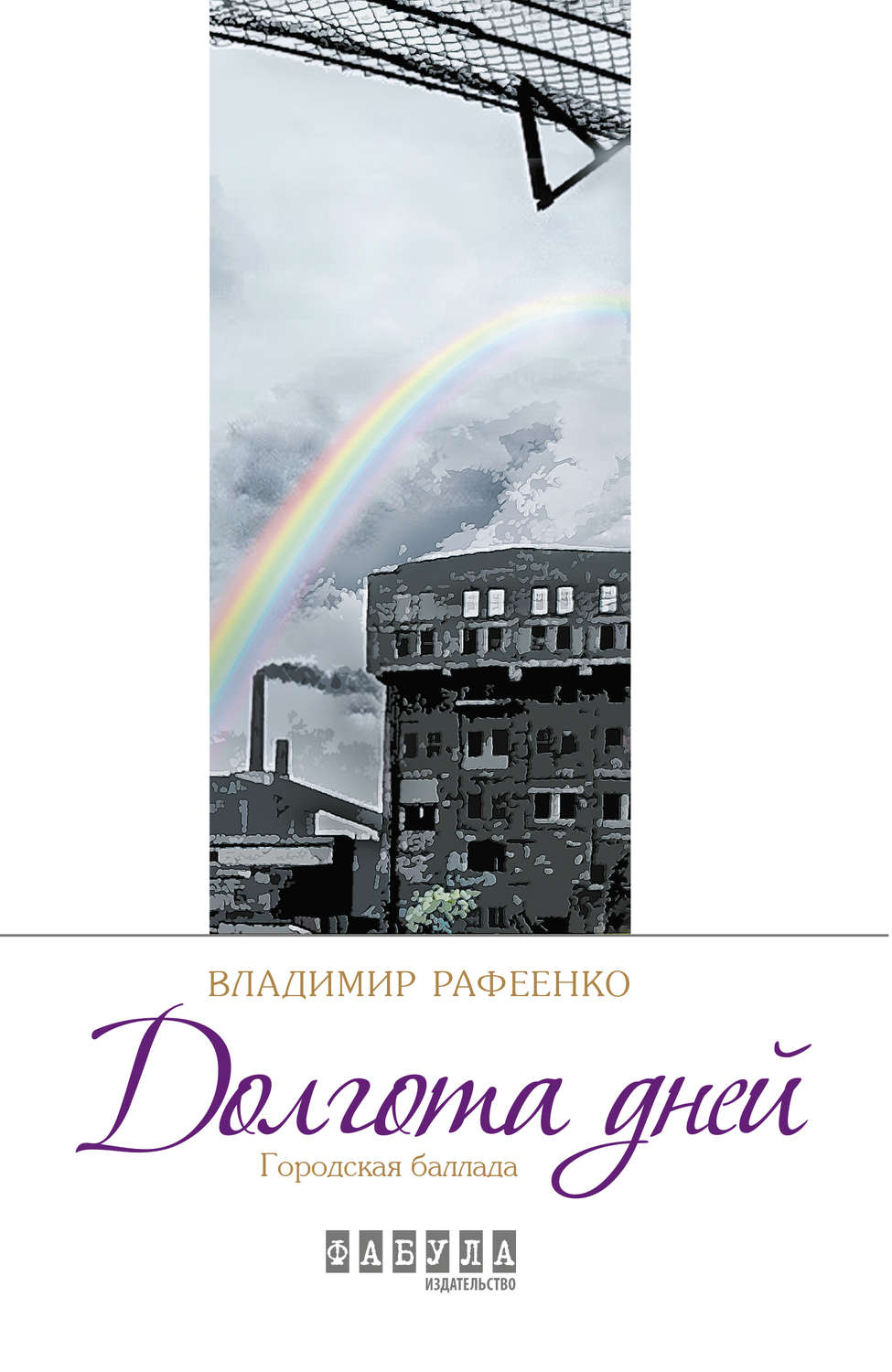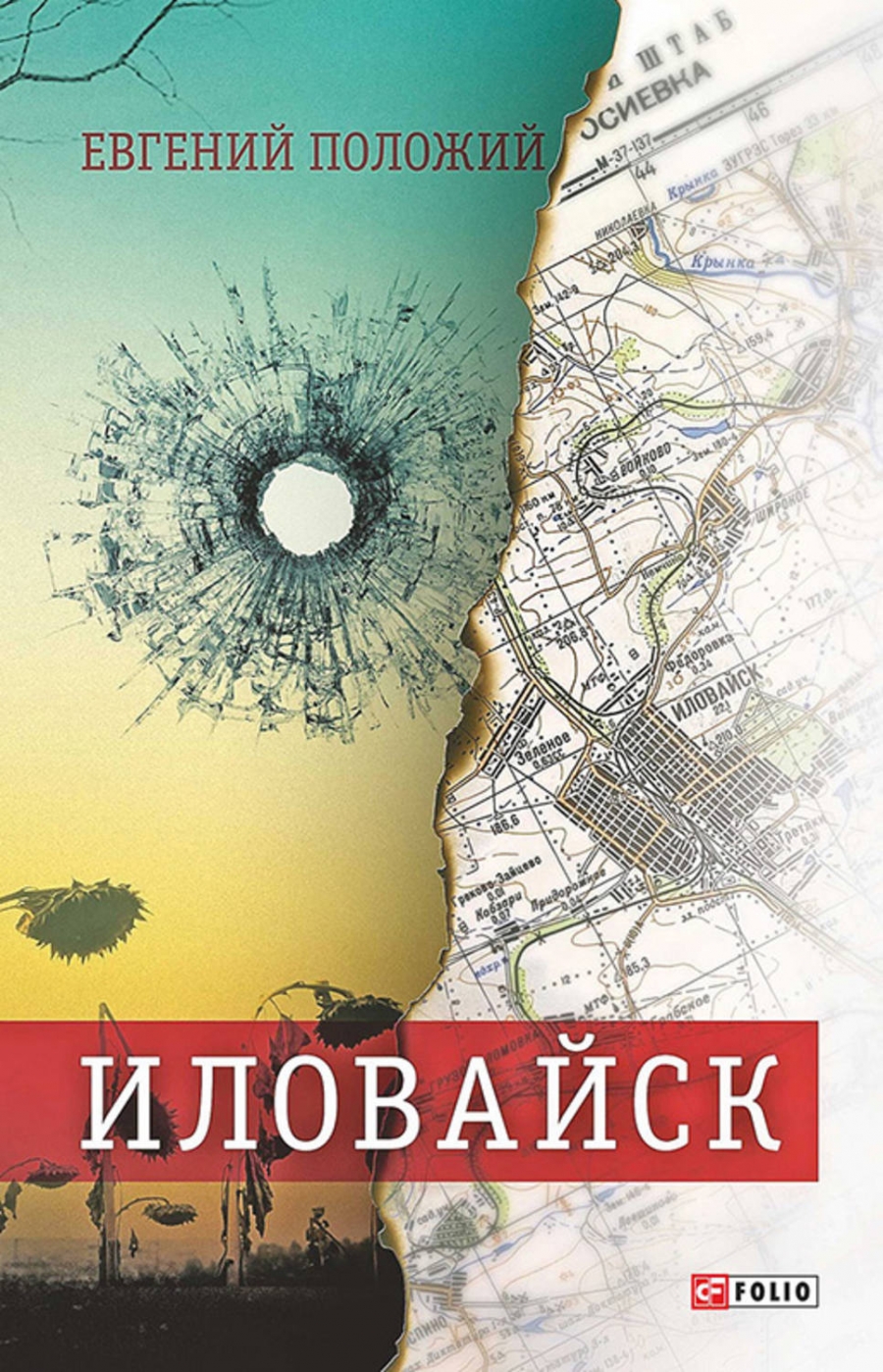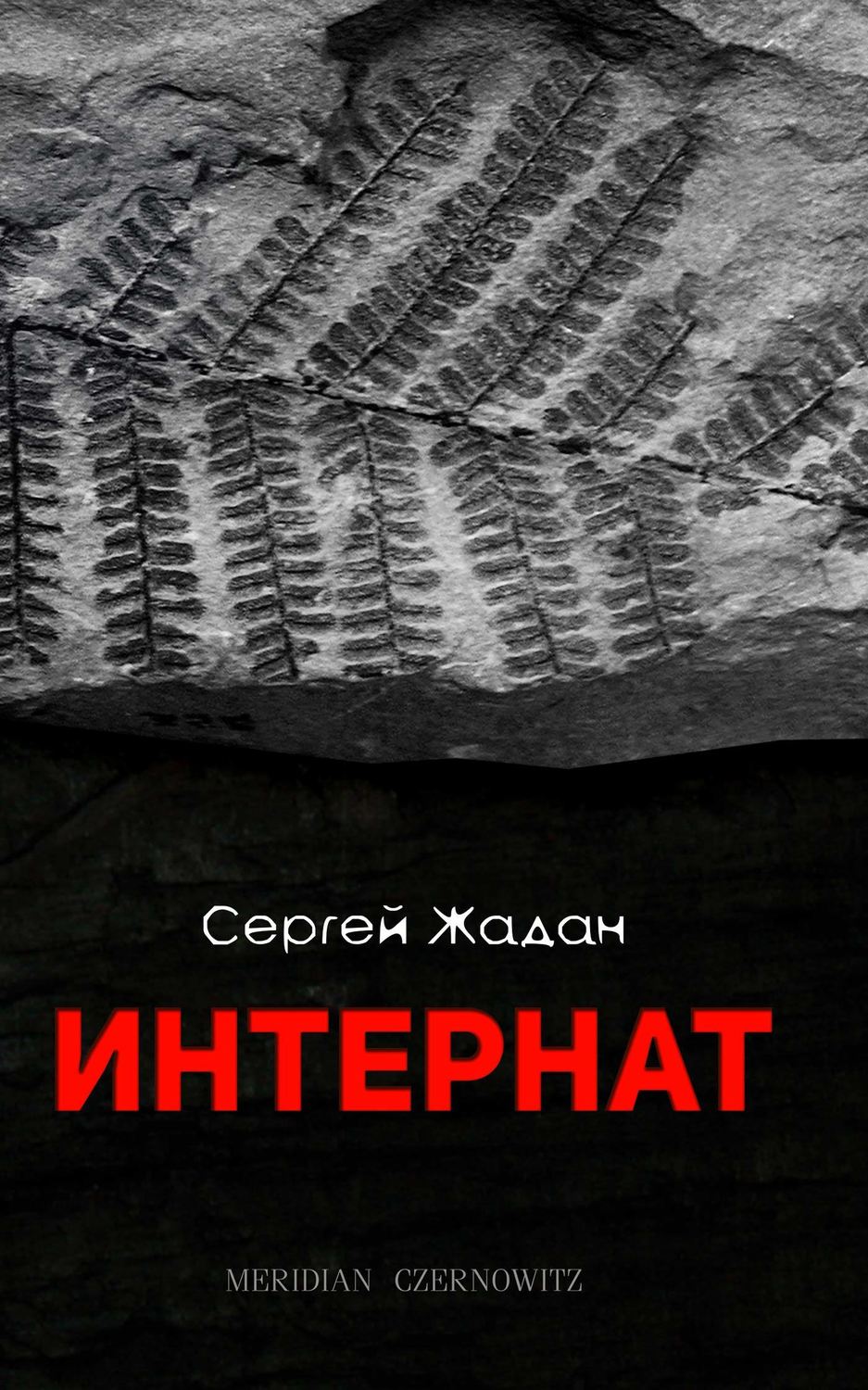- Код статьи
- S086954150016708-8-1
- DOI
- 10.31857/S086954150016708-8
- Тип публикации
- Статья
- Статус публикации
- Опубликовано
- Авторы
- Том/ Выпуск
- Том / №4
- Страницы
- 176-191
- Аннотация
В статье анализируется репрезентация нонкомбатантов в украинской литературе в контексте формирования канона о войне в Донбассе. Исследовательский вопрос посвящен литературным практикам реконструкции опыта переселенцев и оставшихся в зоне боевых действий мирных жителей, который отображается в соответствующих эмоциональных матрицах. В данной работе мы исходим из теоретико-концептуального аппарата междисциплинарного направления истории эмоций, разработанного У. Редди, Б. Розенвейн и А.И. Зориным. Данное исследование, представляющее собой синтез антропологического и литературоведческого подходов, основано на анализе ключевых текстов современной украинской литературы, посвященных теме войны на востоке Украины. Авторы приходят к выводу о том, что в формирующемся литературном каноне о войне тема опыта беженцев и мирных жителей, оставшихся в зоне боевых действий, потенциально может стать одной из наиболее важных.
- Ключевые слова
- Украина, украинская литература, война в Донбассе, эмоции, нонкомбатанты, беженцы
- Дата публикации
- 28.09.2021
- Год выхода
- 2021
- Всего подписок
- 6
- Всего просмотров
- 153
Культурная сфера современной Украины предстает как пространство информационного противостояния и осмысления трагических событий войны на востоке страны. Важнейшую роль в качестве медиума этих событиях и силы, которая была призвана художественными средствами переопределить своих и чужих, установить нормативные рамки чувствования и отделить правильные эмоции от неправильных, сыграла современная украинская литература1.
Трудно переоценить важность национальной литературы и романа как ее фундаментальной формы для национального строительства. Именно эта литературная форма (наравне с газетной) дает технические средства для “репрезентирования” того вида воображаемого сообщества, которым является нация (Андерсон 2016: 73). История украинской политической нации и история украинской литературы во многом тождественны; зачастую рассказать историю нации невозможно в отрыве от истории ее литературы. В настоящий момент мы можем наблюдать за процессом формирования литературного канона о войне на востоке Украины. Как отмечают А. Ассман и Я. Ассман в своем анализе взаимоотношений государственной цензуры и литературного канона, сущность канона обусловлена структуризацией и сужением существующей традиции, из которой изымается определенная область, граница которой соответствует разделению на каноническое и апокрифическое (Ассманн, Ассман 2001: 133). Таким образом, функцией канона всегда является социальная интеграция, закрепление норм и смыслов, а также отстранение от определенной части традиции, которая в дальнейшем будет обозначаться как девиация. При этом закрепленная в каноне истина, воплощенная в структуре и семантике нарратива, всегда касается “истины-для-некоторой-группы”. Это верно подмеченное наблюдение как нельзя более удачно репрезентируется на материале украинской литературы о войне.
С одной стороны, авторы в своем рассказе о войне претендуют на абсолютную истину для всего украинского общества. С другой стороны, возникает противоречие в связи с фактической необходимостью построения в рамках произведений личных отношений внутри групп, чьи судьбы оказались затронуты этим конфликтом. Таким образом, формирующийся литературный канон основывается на опыте и “истине-для-некоторой-группы”, которыми в нашем случае выступают разного рода комбатанты и нонкомбатанты, волею судеб вовлеченные в конфликт на востоке Украины.
Обладая инструментами поддержания и воспроизводства канона, государственные культурные институты формируют социальный порядок так же, как сплоченность группы, которая послужит своеобразной мастер-копией того, как украинскому обществу следует относиться и какие эмоции его члены должны испытывать по отношению к этому конфликту (Там же: 149).
Авторы исходят из того, что внутри сферы культуры как регулятора общественной жизни литература предстает как плюралистичное, многополярное пространство осмысления и разработки представителями эмоциональных сообществ соответствующих эмоциональных матриц. Будучи предъявлены вовне, данные матрицы могут как претендовать на последующее закрепление в качестве национального канона патриотического чувствования, так и деконструировать параллельно существующие автоглорифицирующие матрицы как чужих, так и собственных сообществ. В данной работе мы предлагаем рассматривать литературу в широком смысле как поле производства эмоциональных матриц, которые в дальнейшем, став частью национального литературного канона о войне, де-факто превратятся в своеобразную обязательную модель общенационального чувствования войны будущими поколениями граждан Украины.
Авторы видят свою цель в том, чтобы продемонстрировать, что осмысление войны на Донбассе в пространстве украинской художественной и документальной литературы не является внутренне унифицированным и единообразным. В посвященных данной теме работах В.К. Герасимов анализирует эмоциональные матрацы украинских комбатантов – бойцов Вооруженных сил Украины (далее – ВСУ) и членов парамилитарных образований (добровольческих батальонов) в художественной и документальной литературе, посвященной войне (Герасимов 2020). В этой статье мы продолжаем исследование эмоциональных матриц участников конфликта и переводим взгляд с позиций комбатантов на репрезентации эмоционального мира оставшихся в зоне конфликта мирных жителей и переселенцев.
В статье под термином “переселенцы” нами будут подразумеваться “внутренне перемещенные лица”. Согласно современному украинскому законодательству, данным термином обозначаются лица, находящиеся на территории Украины на законных основаниях и имеющие право на постоянное проживание в стране, но вынужденные оставить или покинуть свое место жительства в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта (Закон України 2014)2. Понятия “переселенцы”, “беженцы” и “внутренне перемещенные лица” используется в тексте как синонимичные. Ввиду данного определения мы не говорим об образе беженцев, которые уехали из Украины в РФ и другие страны. Вместе с тем необходимо признать, что в проанализированном массиве литературных произведений примеров описания подобного рода беженцев мы не обнаружили. Скорее всего, для рассмотрения данного вопроса необходимо изучить корпус русской литературы, посвященной войне в Донбассе, что, однако, является темой для отдельного исследования.
Исследовательский вопрос нашей статьи можно обозначить следующим образом: как в произведениях украинской литературы о войне отображена тема опыта нонкомбатантов – беженцев и мирных жителей, оставшихся в зоне боевых действий?
Мы продемонстрируем, что наравне с литературными произведениями, созданными комбатантами, существует пласт произведений, посвященных кардинально иному опыту переживания войны. Мы выделяем собственную классификацию эмоциональных матриц нонкомбатантов (в число которых входят как беженцы, так и мирные жители, оставшиеся в зоне боевых действий) как предлагаемых украинской читательской аудитории образов переживания и чувствования войны.
С этнографической точки зрения транслируемые литературой эмоциональные матрицы могут быть в известной степени соотнесены с реальными матрицами реальных эмоциональных сообществ. В то же время их полное отождествление некорректно. Еще более сложная ситуация предстает перед нами при переходе к изучению эмоциональных матриц проживающих в Донбассе мирных жителей – нонкомбатантов, которые оказываются представлены либо авторами, ставшими переселенцами, либо профессиональными писателями, не проживавшими на территории Донбасса во время боевых действий. В обоих случаях в процессе описания эмоционального мира жителей Донбасса авторы неизбежно сталкиваются с необходимостью реконструкции собственного опыта и практик. Таким образом, трансляция украинской литературой эмоциональных матриц донбасских нонкомбатантов может рассматриваться и как трансляция матриц профессиональными публичными интеллектуалами-писателями для нонкомбатантов.
В работе анализируются книги, чья презентация была приурочена к крупнейшему книжному фестивалю Украины “Книжковий арсенал” 2016–2018 гг. и таким образом презентовалась издателями как некоторый мейнстрим их деятельности. Также авторы производили мониторинг сайтов крупнейших книготорговцев и издателей: “Yakaboo”, “Книгарня Є”, “Клуб Сімейного Дозвілля” и др.
За последние годы сформировался определенный корпус работ, в которых анализировалась художественная и мемуарная литература о войне на востоке Украины. Так, А. Портнов в своих работах, посвященных украинским интеллектуальным дискурсам, рассматривает позиции украинских литераторов как публичных интеллектуалов относительно вопроса “украинскости” Донбасса и шире – юго-востока Украины (Портнов 2016). Объектом интереса ученого выступают не литературные произведения о войне как таковые, а политическая и мировоззренческая позиции их авторов по поводу возможности и целесообразности реинтеграции Донбасса в общеукраинское политическое и символическое пространство. В центре его внимания оказывается фигура писателя и поэта С. Жадана, олицетворяющая для исследователя неприятие традиции так наз. галицийского редукционизма, которую он определяет как систему представлений о том, что Украина может стать успешной, лишь избавившись от балласта Донбасса (Там же: 111–112). В нарративе галицийского редукционизма жители Донбасса обязаны нести коллективную ответственность за события так наз. русской весны, в то время как С. Жадан занимает позицию, согласно которой “население охваченного войной региона не стоит обвинять в том, что стало следствием внешней агрессии, а также решений киевских и местных элит” (Там же: 114). Таким образом, галицийский редукционизм представляет собой мировоззрение, дегуманизирующее жителей Донбасса и исключающее их из воображаемого сообщества украинской нации.
Литературовед и историк культуры Я. Полищук обращается к изучению образов Донбасса и его жителей, воплощенным в украинской постсоветской литературе. По его мнению, метафора (как символический образ региона) и метонимия (как слепок ментальности его жителей) Донбасса тесно переплетаются в художественной литературе. Рассматривая в качестве примеров сборник повествований Владимира Рафеенко “Краткая книга прощаний” и роман Алексея Чупы “Сказки моего бомбоубежища”, Я. Полищук приходит к выводу, что под маской “диковатости и экзотичности” персонажи книг скрывают в себе “отчужденность и самоизолированность, малодушие и брутальность… страх и беспомощность, инертность и нехватку воли к переменам в жизни” (Полiщук 2018: 14). По мнению исследователя, подобная “противоречивая метонимия” и означает суть “метафоры Донбасса” как “метафоры экзистенциальной пустоты, возникшей на месте разрушенного… советского мифа” (Там же: 19). Таким образом, автор является представителем той ветви украинского литературоведческого осмысления Донбасса, в рамках которой этот регион предстает экзистенциальным провалом и в целом пространством украинской катастрофы. Подобная “мягкая” стигматизация является допустимой оптикой в украинской академической дискуссии. С нашей точки зрения, подобная оптика говорит скорее о реакции публичных интеллектуалов на неудачу украинского национального строительства, нежели о сущностных характеристиках Донбасса как Другого.
В вышеприведенных случаях исследовательский интерес к литературе о войне в Донбассе лишь косвенно затрагивает сферу эмоционального. Однако нельзя упускать из виду работу И. Гомза и Н. Коваль, в которой они, анализируя роль эмоций как фактора политической мобилизации участников Евромайдана, акцентируют внимание на значимости эмоционального единения его участников. Взаимодействие через разделяемые позитивные эмоции создавало образ общности, а воображение себя в качестве моральных акторов было критически значимо как для антагонистов (чтобы противопоставить себя), так и для тех, кто остался в стороне от конфликта (Gomza, Koval 2015: 58).
В представленной работе авторы опираются на теоретико-концептуальный аппарат такого междисциплинарного направления исследований, как история эмоций, разработанный У. Редди, Б. Розенвейн и А. Зориным, а именно – на корпус понятий “эмоциональный режим”, “эмоциональные сообщества” и “эмоциональные матрицы”.
Согласно У. Редди, под эмотивом понимается тип речевого акта, который через эмоциональное выражение одновременно описывает и меняет мир. Политические режимы в своей деятельности опираются на “эмоциональные режимы” как совокупность нормативно предписанных эмотивов, транслируемых через официальные практики и ритуалы (напр., эмотив публичной декларации любви к родине). Неспособность индивида соответствовать предъявляемым требованиям ведет к возникновению у последнего “эмоционального страдания” и поиску “эмоциональных убежищ” (Reddy 2001: 124–129; Зорин 2016: 17; Плампер 2018: 418–419; Rosenwein 2010: 22).
Согласно Б. Розенвейн, эмоциональные сообщества представляют собой группы, в рамках которых входящие в них индивиды разделяют общие интересы, ценности и цели. Имея в основе общий социальный бэкграунд своих членов, эмоциональные сообщества характеризуются природой аффективных связей между ними, валоризацией, девалоризацией или игнорирированием определенных эмоций, поощрением или порицанием определенных модусов эмоциональной экспрессивности (Rosenwein 2006: 24–26; 2010: 11). Существование эмоциональных сообществ имеет прямое отношение к выработке эмоциональных матриц, понимаемых как образы публичного выражения эмоций (Rosenwein 2006: 25; Зорин 2016: 30).
Таким образом, методологически мы выделили эмоциональные матрицы нонкомбатантов в произведениях украинской литературы, создав на первом этапе репрезентативную выборку литературных произведений. Затем мы приступили к рассмотрению содержащихся в них описаний эмоциональных состояний, связанных с изучаемыми группами населения. Далее были отмечены наиболее значимые и часто упоминаемые описания подобных эмоциональных состояний героев произведений как публичных проявлений тех или иных испытываемых чувств. Подобные публичные проявления чувств, которые задают иерархию достойного и недостойного набора эмоций, мы и определяем как эмоциональные матрицы. В дальнейшем нашей задачей будет концептуализировать суть данных матриц как предъявляемых нормативных поведенческих сценариев.
Эмоциональные матрицы переселенцев: чужие среди своих
В украинской литературе о войне можно выделить две эмоциональные матрицы, приписываемые переселенцам. А именно: матрицы “бесконфликтной интеграции” и “неудачной аккультурации”.
Матрица бесконфликтной интеграции связана с сюжетами успешной адаптации беженца на новом месте. Ярким примером воплощения такого рода матрицы можно назвать книги писательницы-переселенки из Луганска Маргариты Олеговны Сурженко. В полуавтобиографической повести Сурженко “АТО. Історії зі Сходу на Захід” (“АТО. Истории с востока на запад”), которая несколько месяцев держалась в топ-20 книжного магазина «Книгарня “Є”», есть героиня по имени Ангелина, нашедшая новую, лучшую жизнь. Очарованная западноукраинским сельским колоритом, она получает в селе Ивано-Франковской области “чудесную возможность узнать настоящую Украину” и понять, “что значит любить ее всем сердцем”. Другой персонаж повести – Оксана – начинает работать как фрилансер и перечислять деньги на армию. Третий персонаж, Толик, после ранения и демобилизации из добровольческого батальона “Айдар” устраивается в киевскую IT-фирму и так же, как и Оксана, находит свое новое призвание в помощи армии. Все ее герои не только без сожаления, но и с радостью оставляют в прошлом свою прежнюю жизнь, обретают новый дом в городах Центральной и Западной Украины, и все вместе идут в День независимости на львовский концерт “Океана Ельзи” (Сурженко 2014).
Так же эмоциональная матрица бесконфликтной интеграции показана и в прозе писателя и журналиста Евгения Положия. Так свой естественный и безальтернативный патриотизм обрисовывает школьник, чей отец был ранен под Иловайском: “У нас нет выбора. Все наши вещи, вплоть до носков, остались в Донецке... Мы с отцом снимаем однокомнатную квартиру под Житомиром. Он собирается на войну, я – в новую школу. Я буду жить здесь. Это главное, о чем я хотел сказать” (Положий 2015: 136).
Рискуя жизнью, соглашается помочь вернуть тело погибшего украинского солдата его родным переселенец Паша из города Снежное. Герой произведения еще в юности приобрел тюремный опыт (он грабил киоски), но несмотря на это Паша показан как смелый и порядочный человек, готовый рисковать жизнью не только ради денег, но в первую очередь из-за желания “стать полезным и нужным в новой жизни, среди незнакомых и местами не очень понятных ему людей”. Других близких людей у него не осталось: из-за его убеждений (он выступал “за единую Украину”) его прокляли мать и отец, для своих “донбасских пацанов” он стал врагом (Там же: 211–213, 217).
Данная эмоциональная матрица парадоксальным образом обнаруживает сходство с формами соцреализма как творческого метода. В подобных произведениях герои действуют и живут согласно описанию положительных героев в соцреалистическом романе А. Синявского – “лишены недостатков либо наделены ими в небольшом количестве, для того чтобы сохранить кое-какое человеческое подобие, а также иметь перспективу что-то в себе изживать и развиваться, повышая все выше и выше свой морально-политический уровень. Они твердо знают, что хорошо и что плохо, для них не существует внутренних сомнений и колебаний” (Терц 1988: 25). События, заставившие их переселиться, оказываются теми необходимыми испытаниями и жизненными невзгодами, преодолев которые они становятся достойными членами общества и патриотами Украины.
Рис. 1. Обложки книг Маргариты Сурженко “АТО. Icторii зi Cходу на Захiд” 2014 г. и “Нове життя. Icторii з Заходу на Сxiд” 2015 г. выпущенные издательством “Discursus”
Вторую эмоциональную матрицу можно обозначить как “неудачная аккультурация”. Для нее характерны чувство страдания и поиск эмоционального убежища, будь то мечты о возвращении домой или гедонизм. В 2015 г. Сурженко выпускает повесть “Новая жизнь”, в которой фактически деконструируется первая часть дилогии. В книге жизнь беженки из Луганска Ольги оказывается отнюдь не столь радужной, как у ее братьев и сестер по несчастью в повести 2014 г. Приветствие “Cлава Украине” поначалу вызывает у героини ненависть, как и весь окружающий ее Киев, в то время как надежда на возвращение в Луганск, напротив, дает ощущение счастья (Сурженко 2015: 46, 50). Предприняв неудачную попытку вернуться, Ольга оказывается вынуждена идти на обман влюбленного в нее бизнесмена-патриота, представляя себя как патриотку Украины, находящуюся во враждебном окружении. Несмотря на то, что Киев перестает быть для нее чужим, ей все же предстоит стать разоблаченной и утратить свою любовь, тем самым расплачиваясь за неискренность и попытку скрыть свое “неправильное” прошлое (Там же: 203–205). Другая героиня писательницы, Катя, тоже беженка из Луганска, переехав в Кривой Рог, резко отделяет свою жизнь от идущей войны: “Война осталась там! Здесь нет войны!... Война там, а мы здесь!... Хватит с нас всего этого, стрельбы по ночам, взрывов! Мы имеем право отдохнуть!”. По ее мнению, отвечать за войну должны “начавшие” ее “майдауны”, и желание ее парня уйти добровольцем на фронт вызывает у нее категорическое неприятие, ведущее к разрыву отношений (Сурженко 2014: 32–35).
Горечь по поводу несоответствия разделяемых эмотивов “коренных” украинцев и украинцев, “вернувшихся” в Украину из зоны боевых действий, также иллюстрируется как обоюдная. Нежелание, а зачастую и неспособность людей, бежавших с территории военных действий, соответствовать общепринятому украинскому патриотическому эмоциональному режиму, и вызывает у жителей населенных пунктов, куда приехали беженцы из Донбасса, резко негативную реакцию. Личный неудачный опыт коммуникации лишь укрепляет ранее существовавшие предубеждения относительно “донбасских”. В своем сборнике рассказов Е.В. Положий так описывает реакцию Стаса, зятя матери погибшего солдата: “Знаю я эту публику! Сидят тут, жрут, социалку получают, а нас ненавидят!... Я не пойму, они что, в Украине мало денег зарабатывали? Им плохо жилось? Да получше, чем всей остальной стране! Ради чего надо было все это затевать, б… по референдумам бегать? Чтобы люди гибли? Чего не хватало?” (Положий 2015: 210).
Для журналиста и писателя Руслана Владимировича Горовия подобные ситуации являются поводом подчеркнуть инаковость и чужеродность жителей Донбасса, ставших беженцами. В одном из его рассказов очень громко говорящая по-русски в общественном транспорте женщина, демонстрирующая факт близкого знакомства с сепаратистом и пренебрежение к приютившим ее родственникам, становится объектом шутки со стороны рассказчика. Он изображает телефонный разговор с комбатом добровольческого батальона “Донбасс” и якобы от лица женщины просит “комбата” устроить ее мужа и сына в батальон, саму же ее направить “поближе к АТО” на полевую кухню. Естественно, женщина испытывает шок и выбегает на ближайшей остановке (Горовий 2016: 33).
Таким образом, фигура беженца в литературе о войне раскрывается через противостояние этих матриц. Если характеристиками эмоциональной матрицы неудачной аккультурации выступают стремление абстрагироваться от войны, локальный региональный патриотизм, ценность памяти о прошлом, нежелание интегрироваться в новые эмоциональные сообщества, готовность мимикрировать для обеспечения соответствия официальному патриотическому эмоциональному режиму и/или искать “эмоциональные убежища”, то эмоциональная матрица бесконфликтной интеграции раскрывается через еще советские тропы положительного героя, которого характеризуют готовность сознательно стать комбатантом или волонтером, восхищение Киевом, городами и селами Западной Украины как “подлинной Украиной”, стремление интегрироваться в новые, правильные эмоциональные сообщества.
К сожалению, произведений, связанных с сугубо эмоциональной матрицей неудачной аккультурации, мы более не зафиксировали. Можно предположить, что подобная ситуация обусловлена крайней болезненностью признания существования проблемы интеграции беженцев.
Рис. 2. Обложка книги Владимира Рафеенко “Долгота дней”, выпущенная издательством “Фабула” в 2017 г.
Своеобразный синтез этих матриц можно увидеть в романе известного русскоязычного украинского писателя Владимира Рафеенко “Долгота дней”. Вынужденный стать беженцем и покинуть родной Донецк, автор делает главными героями романа магических переселенцев, которые, не отказываясь от своей донбасской идентичности и являясь в то же время патриотами Украины, выступают агентами замены внутриукраинского эксклюзивного эмоционального режима на более инклюзивный.
Сквозь повествование проходят две сюжетные линии. Одна из них повествует о городе Z (под которым подразумевается Донецк), оказавшемся в результате интриг российских политтехнологов магически присоединенным к несуществующему СССР. Все его жители оказываются, по сути, мертвы и лишены возможности вырваться из этого искривленного хтонического пространства. В романе единственным способом сбежать из Z и воскреснуть в идеальной Украине является смерть. В противном случае, при попытке попасть в Украину живым, минуя стадию гибели в Z, человека встретят либо коррумпированные чиновники, либо ненавидящие его этнонационалисты, и затем он вновь очнется в Z. Иными словами, постулирует Рафеенко, экзистенциальных вариантов для мирных жителей всего два – либо посмертная жизнь в Украине, либо прижизненная смерть в Z.
Главные герои романа Сократ Гредис, Николай Вересаев и Лиза Элеонора жертвуют своей жизнью дважды: сперва при переходе из Z в Украину, а затем в Киеве, где гибнут ради воссоединения нового, “не советского” и “не русского”, очистившегося Z, c обновленной Украиной без коррумпированных элит и этнонационалистических мифов (Рафеенко 2017: 256, 260, 276). Тем самым манифестируется невозможность отождествления вырвавшихся из Z людей, обладающих крайне травматическими практиками прижизненной смерти и посмертной жизни, с поддерживаемым политической элитой Украины образца 2017 г. эксклюзивным эмоциональным режимом. “Инаковость” переселенцев, ставших мучениками и патриотами, служит способом обретения Украиной идеальной себя. Вторая, вставная, сюжетная линия раскрывается в ряде не связанных между собой новелл, которые в романе пишет один из героев, Николай Вересаев. Эти рассказы, лишенные какой-либо условности, жестко и даже жестоко иллюстрируют реальный опыт выживания и/или внезапной смерти в городе, где ты не знаешь, чей снаряд прилетит в твой дом или автобус. Тем самым Рафеенко, с одной стороны, собственноручно проламывает стену магического реализма, в котором развивается основной нарратив романа, с другой – показывает читателю, что страшная магическая сказка – это не сказка, а самая что ни на есть реальность.
Одна из центральных новелл романа, “Пиво и сигареты”, которая дает представление об экзистенциальном опыте донбасского лета 2014 г., была опубликована в одном из важнейших российских литературных журналов “Знамя”. Тем самым боль и ужас войны были продемонстрированы не только украинскому, но и российскому читателю, выступив тем самым образцом гуманизма в литературе, когда эмпатия преобладает над попыткой понять, а на “правильной” ли стороне находится беззащитный человек. Вместе с тем, как отмечает Рафеенко, выход в свет этого романа ввиду четко выраженной позиции касательно виновных в возникновении войны поставил крест на возможности публиковать его тексты в России (Абибок 2017).
Донбасс как Другой: эмоциональные матрицы мирных жителей в зоне конфликта
Авторы, произведения которых связаны с войной, не только реконструируют эмоциональные матрицы собственного эмоционального сообщества, как это происходит с эмоциональными матрицами комбатантов (Герасимов 2020: 183–184), но и, руководствуясь собственными гипотезами о матрицах других эмоциональных сообществ, вписывают свой опыт в процесс создания образов того, как чувствуют другие. Соответственно, в произведениях о войне на востоке Украины важнейшее место отводится выстраиванию и реконструкции матриц, приписываемых мирным жителям прифронтовых территорий.
Как путешествие на машине времени в СССР описывает свое пребывание в Мариуполе боец батальона “Азов”3 с позывным “Воланд”: “Совсем не чувствовалось, что это Украина… Время тут остановилось… все осталось на уровне 70-х годов” (Позывной “Воланд” 2016: 73). Рядовые бойцы в своих мемуарах создают образ чужеродности и отличности Донбасса, чтобы противопоставить себя ему и его жителям.
Мы видим использование отчуждающих тропов в отношении местного населения, которое экзотизируется и оказывается в положении карикатурного туземца. В этой колониальной логике жителям Донбасса приписываются иррациональное мышление, неспособность к воспринятию “правильных” ценностей, примитивное преклонение перед властью, убогость и инфантильность. Все эти характеристики, по мнению авторов, могут исправить приехавшие в Донбасс украинские комбатанты:
Люди, которые не понимают таких простых слов, как самоорганизация, солидарность, честь и гордость. Они никогда не будут с нами в одном ряду.... Не привыкли эти люди к человеческим отношениям. Им нужна власть… которая их так нагнет, что уже не встанешь… которая будет их считать ничем, при которой они не будут ничего решать… и они спокойно смогут погрузиться в свой мир тоски и отчаяния, злобы и ненависти, ища врагов везде, только не у себя (Там же: 73–75).
Эти люди всего лишь имеют особенный менталитет… Они были не способны понимать ситуацию и рациональные аргументы… уважали только силу (Позивний “Вирiй” 2017: 82).
Я вижу огромное количество москалей, деды и отцы которых понаехали в Украину на обезлюдевшие из-за голода украинские земли. Те москали были и есть московскими патриотами-шовинистами… Этим московским шовинистам в начале 90-х наше украинское, но москвофильское по сути, правительство дало гражданство… Их невозможно перевоспитать. Их можно только умиротворить (Билина 2016: 79).
Вместе с тем Воланд и ряд других комбатантов в своих мемуарах признают, что не все жители Донбасса одинаково антиукраински настроены. Были и те, кто радовался приходу батальона или даже активно старался помочь в поиске сепаратистов (Позывной “Воланд” 2016: 70–71). Автор не трактует такое поведение как желание приспособиться к новой власти – ему важнее видеть в этом проявление искреннего украинского патриотизма. Тем самым безальтернативно негативный взгляд на нонкомбатантов Донбасса сосуществует с убежденностью в существовании “правильных” мирных жителей.
В отличие от позиции комбатантов, взгляд писателей и журналистов обладает менее радикальной оптикой в отношении жителей Донбасса. В их произведениях на первый план выходит ситуация амбивалентности мировоззренческих и политических ориентаций. Приписываемые украинской литературой мирным жителям Донбасса эмоциональные матрицы оказываются принципиально не сводимы к противостоянию между сторонниками сепаратистов и украинскими патриотами. Таким образом, мы выделяем три основные эмоциональные матрицы.
Мирные жители, которые оскорбляют, ненавидят украинских бойцов, угрожают им, равно как и те, кто их лечит, кормит, укрывает, выводит из окружения, остается верен государственным символам Украины и отказывается работать в государственных учреждениях “народных республик”, обладают эмоциональной матрицей, которую можно охарактеризовать как симпатизантскую. В ее рамках мирный житель испытывает ярко выраженные эмоции, такие как гнев, презрение, ненависть, злоба – в адрес одной из противоборствующих сторон и, напротив, такие эмоции, как восхищение, чувство солидарности, любовь – в адрес другой, опознаваемой как “наши”. Выбор объектов позитивных/негативных эмоций выступает производной от занимаемой политической позиции.
В то же время симпатизантская эмоциональная матрица обладает двумя особенностями. Во-первых, внутри нее в качестве исключения из правила сохраняется возможность не испытывать негативные эмоции в адрес своих политических оппонентов. Украинская литература уже создала образ благородных сторонников ДНР, не испытывающих ненависти в адрес ВСУ. Люди, не желающие видеть на своей земле “укропов”, употребляющие в отношении украинских войск местоимение “ваши”, помогают украинским бойцам.
Рис. 3. Обложка русскоязычного издания книги “Иловайск. Рассказы о настоящих людях” Евгения Положия, выпущенная издательством “Фолио” в 2015 г.
В сборнике рассказов “Иловайск. Рассказы о настоящих людях” Е. Положия, в котором документальная проза соединяется с художественной реконструкцией, один из персонажей, главврач Алексей Иванович, “главный сепаратист в Амвросиевке”, добросовестно лечит попавшего в его больницу украинского бойца ВСУ с позывным “Кабан” и не мешает медперсоналу его укрывать. В результате благодарный украинский боец оказывается фрустрирован и не понимает, «как такой человек может поддерживать “дэнээр”» (Положий 2015: 44, 52, 61). Во-вторых, оказывается возможной смена политической ориентации. Симпатизировавшая Украине и спасавшая украинского бойца медсестра Викуся через некоторое время уходит в ополчение ДНР:
– А где Викуся?... – Она с сепарами ушла. – Как ушла? – Медсестрой. – Как так? Не может быть!... Она же за Украину! – Да очень просто… Сошлась с наемникомчеченцем, влюбилась. В больнице все равно денег не платят, город маленький, жить тут такой девушке… трудно и нудно. Семьи нет, перспектив нет, надежд на лучшую жизнь – тоже нет. А там любовь, война, романтика, как в кино, по четыре тысячи в месяц обещают. Так почему не пойти? (Там же: 59–60)
В ситуации войны, тем более такой, которая может быть осознана как гражданская, политическая лояльность может меняться, а образ врага не являться данным раз и навсегда, но эмпатия, небезразличие и активная помощь одной из сторон будут сохранены. Герой, в силу тех или иных экзистенциальных обстоятельств меняющий сторону конфликта и свою политическую идентичность, остается носителем симпатизантской матрицы, продолжая демонстрировать небезразличие и активную вовлеченность в происходящее.
Вторая эмоциональная матрица развертывается через отказ от идентификации себя через политическую лояльность Украине/ДНР/ЛНР, готовность оказывать помощь и вступать в союзы с комбатантами противоборствующих сторон и, самое главное, через стремление к максимизации собственной выгоды. Мы обозначаем ее как бенефициарную матрицу. Ее эмоциональным содержанием является безразличие к политической подоплеке происходящего и направленность позитивных эмоций солидарности и любви не на политические сообщества, а на собственную семью и родственников. Ее воплощением выступает описанный в романе С. Жадана “Интернат” алчный таксист-“игуана”, переживающий за собственного брата. Именно он является проводником главного героя в оставленный украинской армией город. Человек, не ассоциирующий себя ни с одной из сторон конфликта, в то же время, рискуя жизнью, обеспечивает необходимую функцию перемещения между мирами, разделенными линией фронта. Подобная специфическая позиция посредника и отсутствие политической идентичности являются фундаментальными характеристиками его существования.
Человек “в безразмерной кожанке, потасканной и поломанной так, как будто он в ней спит, как будто это его собственная шкура, похожая на старую игуану в зоопарке”, выглядит максимально неброско, но в то же время вызывает у собеседника ощущение, что перед ним не бедность или небрежность, а старательная маскировка. Иными словами, таксист стремится раствориться в окружающем ландшафте и не привлекать внимание. Он знает, “что есть сто двадцать пять вариантов въехать” за линию фронта “и выехать назад… Он с утра уже две ходки сделал, объехав все блокпосты и намахав всех генералов. И что по телевизору показывают совсем не то, и он его вообще не смотрит, потому что там и смотреть нечего”. Его не волнует суверенитет Украины или независимость ДНР:
…и говорит он про то, что дорог нет, дороги просто раз**бали, раз**бали, и все тут, и нет теперь дорог, и раньше не было, и теперь нет... И вот он злится и нервничает, и говорит, вот мол, дороги и военные, и все раз**бали, и брат сидит в городе в подвале, вместе со своими, и не хочет оттуда вылазить… боится оставить здание, а что здание? – спрашивает он Пашу, кому на хрен нужно, то здание, и дороги, говорит он, дороги раз**бали (Жадан 2017: 47).
По этим дорогам, которые он знает “как собственное тело”, он готов вновь и вновь ездить мимо автоматчиков, “бережно объезжая” сгоревший танк с трупами внутри (Там же: 56–57). С. Жадан демонстрирует, что для некоторых жителей Донбасса смерть, война и катастрофа стали частью повседневного ландшафта, и их жизненные стратегии сводятся к выживанию, а не к занятию той или иной стороны на необъявленной гражданской войне.
Схожая фигура таксиста присутствует в документальных повестях бойца батальона “Днепр-1” Романа Зиненко и уже упомянутого журналиста Евгения Положия. Наделенные большей агентностью таксисты проявляют гуманизм и помогают оказавшимся в “Иловайском котле” украинским военным выйти из окружения. Они готовы задавать вопросы – “кому нужна война?” и “зачем Украина ее начала?” и признаваться, что мечтали о “большей независимости от Киева”, “крымском сценарии”, воображаемом СССР и поэтому голосовали за ДНР, но приход российской армии стал для них шоком. Они не хотят войны и готовы бесплатно вывезти раненых украинских солдат к ближайшему блокпосту Национальной гвардии Украины (Положiй 2016: 119–121; Зиненко 2016: 251–253).
Однако подробное описание безразлично-потребительского восприятия воюющих сторон в рамках бенефициарной эмоциональной матрицы мы находим не только в изображении проводников-таксисов. В автобиографическом сборнике рассказов бойца ВСУ Артема Чеха “Точка ноль” существует очень подробное и детальное ее описание:
Местные называют нас “хлопцы”. Мы для них все хлопцы… (курсив А. Чеха. – А.П., В.Г.). К нам подходят, по-деловому просят денег, стандартно спрашивают про “когда же все закончится”… и что-то проповедуют с высоты своих донбасских убеждений. В этом слове хлопцы есть что-то нейтральное, ни вашим, ни нашим… И что характерно, рассказывая про тех, кто воюет по ту сторону, тоже пользуются этим словом… Мы все – и боевики, и ВСУ – для них одинаковы. Теперь мы тут, мы – их хлеб, их колбаса и их турецкие джинсы. Никакой нежности, сочувствия, благодарности – только деловой подход, только бизнес (Чех 2017: 139–140).
Здесь мы опять же сталкиваемся с особым эмоциональным режимом, в котором эмоции по поводу сторон конфликта притупляются, и все устремления обывателя сводятся к обеспечению себя и семьи, что характерно для конфликтов, которые могут восприниматься как гражданская война.
В рамках третьей эмоциональной матрицы нонкомбатанты также не идентифицируют себя через политические взгляды, но, в отличие от “бенефициаров”, у них отсутствуют корыстные мотивы. Это своего рода неприкаянные простецы, чья вина состоит в том, что в решающие моменты они устранились, отказались выбрать свою сторону и тем самым отдали свое настоящее и будущее на откуп другим. Данную эмоциональную матрицу можно определить как “наблюдательскую”.
Восприятие войны местными жителями оказывается парадоксальным, не укладывающимся ни в украинский государственный дискурс “оккупации Донбасса”, ни в сепаратистские дискурсы “возвращения в Россию” и “войны за независимость”. Украинские комбатанты описывают шокировавшие их примеры того, как местные жители (в частности жители Иловайска) воспринимали разворачивавшиеся на улицах их городов боевые действия как своего рода театр или киносъемки. В прозе Зиненко мы видим это наиболее ярко. Автор, описывая реалии городских боев 26 августа 2014 г., когда картина сражения стала очевидным образом складываться не в пользу украинских сил и бойцы батальона “Днепр-1” держали оборону в здании школы, подвергаясь обстрелу из минометов и гранатометов, а также огню снайперов, фиксирует, как он сам это называет, “один удивительный момент”:
Я впервые заметил одну поразительную особенность в поведении некоторых местных жителей. Впоследствии я не раз наблюдал подобную картину… В самый разгар боя, когда… шла нешуточная перестрелка… не далее как в соседнем квартале… некоторые местные жители, как ни в чем не бывало, ковырялись в своих дворах и огородах… Было такое ощущение, что люди находятся в каком-то другом измерении. Будто здесь расположен павильон с декорациями и идет съемка какого-то боевика, а местное население с интересом наблюдает за игрой актеров. Для них будто бы не существовало взрывов и разрушений, и эти люди абсолютно не ощущали реальной опасности. Две противоборствующие силы ведут бой не на жизнь, а на смерть, а обыватель едет себе на велосипеде и думает, что все происходящее его абсолютно не касается. Он не является участником конфликта и считает, что ему ничего не угрожает (Зиненко 2016: 162–163).
В романе “Интернат” С. Жадана объектом морального осуждения становится именно наблюдательская, а вовсе не бенефициарная эмоциональная матрица. Осознание донбасским аполитичным обывателем себя патриотом Украины и осуществляющаяся в процессе замена наблюдательской эмоциональной матрицы на проукраинскую симпатизантскую выступают в качестве главных смысловых посылов романа. Герой романа, 35-летний учитель украинского языка Паша, идентифицирует себя как “какого-никакого бюджетника”, который подрабатывает репетитором и репрезентирует себя окружающим, в том числе комбатантам обеих сторон, через кажущийся ему поначалу нейтральный статус учителя. Его собственная жизнь учителя украинского, говорящего по-украински лишь во время уроков, – жизнь наблюдателя и слабака, не способного брать ответственность ни за вверенных ему учеников, ни за себя самого. Он не интересуется политикой и не желает знать о разворачивающейся войне.
Риc. 4. Обложка книги Сергея Жадана “Iнтернат”, выпущенная издательствам “Meridian Czernowitz” в 2017 г.
Когда линия фронта вплотную приближается к городу, Паша оказывается неспособным даже уехать, твердя как мантру, что его статус учителя позволит ему и дальше быть наблюдателем:
Паша пробовал всех успокоить… говорил, что им бояться в случае чего нечего, что они тут ни при чем, они никого не поддерживают, Паша просто учитель, просто учитель, повторял он, как будто извиняясь за это, просто учитель, все остальное его мало интересует. Куда ему ехать, кто его ждет, чего им бояться, все нормально, он просто учитель (Жадан 2017: 101).
Но внезапно ему приходится отправиться за оставшимся в интернате племянником в город, оказавшийся по другую линию фронта. И это путешествие необратимо меняет его. Самоуспокоение сменяется пронзительным осознанием того, что против него воюют его же собственные бывшие ученики:
Как же так оказалось? Как я не заметил, что мои ученики теперь воюют против меня? Как я это пропустил? Хотя, пробует он себя успокоить, почему против меня? Не против меня. Причем тут я? Да ладно, не против тебя, тут же не соглашается он с собой, понятно же, что именно против тебя, конкретно – против тебя. Против всего того, что с тобой связано. А что со мной связано? – не понимает сам себя Паша. Да все, отвечает он себе, и твой предмет, и твоя школа, и флаг, который над ней висит. Они же за это воюют. Точнее, против этого (Там же: 254).
В конце романа преодолевший многочисленные невзгоды и угрозы, вернувший племянника домой, возмужавший Паша смотрит в глаза украинскому военному и говорит, что его школа расположена на станции, и станция – “наша” (Там же: 302). Процесс смены эмоциональной матрицы с наблюдательской на симпатизантскую оказывается осуществлен.
* * *
В 2014–2018 гг. украинской художественной литературой был создан ряд произведений, на основе содержания которых можно выделить несколько эмоциональных матриц как предлагаемых образов переживания войны различными группами населения, в частности донбасскими нонкомбатантами. Опыт переселенцев описывается через эмоциональные матрицы бесконфликтной интеграции и конфликтной аккультурации, а опыт мирных жителей, проживающих в зоне боевых действий, – через бенефициарную, симпатизантскую и наблюдательскую эмоциональные матрицы. Противостояние симпатизантской и наблюдательской матриц является основной линией сюжетного конфликта в произведениях о нонкомбатантах Донбасса. Говоря же о крайне негативном восприятии нонкомбатантов бойцами парамилитарных формирований, можно зафиксировать, что для них житель Донбасса зачастую выступает объективированным Другим, на фоне которого и осуществляется героическая самоидентификация.
За прошедшие годы корпус литературы о войне пополнялся в первую очередь дневниками и воспоминаниями ветеранов ВСУ и парамилитарных формирований. Одна из проблем, с которой столкнулись украинские писатели, связана с тем, что в украинском литературном каноне практически не существовало образцов, демонстрирующих эмоциональные режимы переживания опыта беженцев. В результате писатели, начавшие говорить о беженцах и мирных жителях в ситуации гражданской войны, при реконструировании эмоциональных состояний нонкомбатантов оказались де-факто первопроходцами.
Стоит отметить, что происходящие процессы создания литературного канона о войне амбивалентны по отношению к довоенным процессам нациестроительства в культуре в целом и литературе в частности. Война, безусловно, стала триггером кристаллизации и усиления эксклюзивного этнонационалистического понимания нации, что нашло широкое отражение в ряде произведений комбатантов, в первую очередь ветеранов добровольческих батальонов. В то же время ряд произведений демонстрирует тупиковость и ошибочность априорной дегуманизации и маргинализации жителей Донбасса, выступая проводником повестки не этнического, а гражданского национализма, допускающего, в частности, билингвальность. Таким образом, налицо сосуществование двух разнонаправленных тенденций.
Тем не менее мы предполагаем, что художественные произведения, где главными героями не выступают военнослужащие, в перспективе имеют больше шансов войти в историю украинской литературы и украинский литературный канон. Это обусловлено как большей художественной ценностью данных произведений, так и тем, что в них читателю не предлагается одномерная картина борьбы добра со злом, а признается возможность наличия амбивалентного опыта переживания войны. Такие писатели, как Сергей Жадан и Владимир Рафеенко, в своих произведениях не впадают в крайность дегуманизации тех лиц, которые отказались от лояльности украинскому государству и стали сторонниками непризнанных республик. Вынося им моральное осуждение, авторы тем не менее не предлагают читателям воспринимать их в качестве тотально Других, демонстрируя нам гораздо большую по сравнению с ветеранской прозой палитру человеческих судеб на войне. Репрезентируя многомерную и не сводящуюся к простому противостоянию своих и чужих картину войны, они представляют более гуманистический и инклюзивный украинский патриотический дискурс. Подобного рода оптика, дающая возможность включить в литературный канон сочувственный взгляд на мирных жителей Донбасса независимо от их политических убеждений, является стратегически перспективной в качестве символического инструментария урегулирования конфликта.
Вместе с тем репрезентация нонкомбатантов является лишь реконструкцией профессионалов от литературы для широкой читающей массы украинцев и литературных критиков. Опыт переселенцев и местных жителей по большей части оказался культурно апроприирован, и его возвращение возможно лишь в сложных фантасмагорических произведениях, таких как, например, роман “Долгота дней” В. Рафеенко, которые показывают запутанный мир переселенцев, где преодоление политических разногласий возможно лишь через экзистенциальный разрыв с прошлой жизнью. Дальнейшая судьба канона, на наш взгляд, еще не определена и будет зависеть от позиции ключевых игроков в украинских государственных культурных институтах, дальнейшего течения войны в Донбассе и успешности процессов ее урегулирования.
Примечания
- Под современной украинской литературой мы также понимаем произведения русскоязычной литературы Украины. Фактически водораздел русской и украинской литератур проходит не по языковому признаку, а исходя из идейных трактовок войны на востоке Украины.
- В закон образца 2021 г. были внесены некоторые изменения, в т.ч. касающиеся концептуализации понятия, в результате чего его формулировка отличается от представленной в первоначальной редакции закона в 2014 г.; однако смысл определения остается неизменным.
- Организация запрещена в РФ.
Библиография
- 1. Абибок 2017 – Абибок Ю. Владимир Рафеенко о своем новом романе – а также о смерти, превращениях и Донецке, в который невозможно вернуться 2017 // Информационное агентство “ОстроВ”. 10.11.2017. https://www.ostro.org/general/society/articles/536140
- 2. Билина 2016 – Билина П. Вiйна кличе. Стань переможцем! Нотатки на полях росiйско-украiнськоi вiйни. Тернопiль: Джура.
- 3. Горовий 2016 – Горовий Р. Казки на нiч. Харькiв: Клуб сiмейного дозвiлля.
- 4. Жадан 2017 – Жадан С. Iнтернат. Чернiвцi: Meridian Czernowitz.
- 5. Закон України 2014 – Закон України. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. 20.10.2014 // Верховна Рада Україны. Законодавство Україны. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
- 6. Зиненко 2016 – Зиненко Р. Иловайский дневник. Харьков: Фолио.
- 7. Позивний “Вирій” 2016 – Позивний “Вирій”. Жадання фронту. Маріуполь; Київ: Мена; Домінант.
- 8. Позывной “Воланд” 2016 – Позывной “Воланд”. Вальгалла-экспресс. 2-е изд., доп. Мена: Изд-во “Доминант”.
- 9. Положий 2015 – Положий Е. Иловайск. Рассказы о настоящих людях. Харьков: Фолио.
- 10. Положiй 2016 – Положiй Е. 5 секунд, 5 днiв. Київ: Нора-Друк.
- 11. Рафеенко 2017 – Рафеенко В. Долгота дней. Харьков: Фабула.
- 12. Сурженко 2014 – Сурженко М. АТО. Icторii зi Cходу на Захiд. Брустури: Discursus.
- 13. Сурженко 2015 – Cурженко М. Нове життя. Icторii з Заходу на Сxiд. Брустурів: Discursus.
- 14. Чех 2017 – Чех А. Точка нуль. Харьков: Vivat Publishing.
- 15. Ассманн А., Ассманн Я. Канон и цензура // Немецкое философское литературоведение наших дней / Отв. ред. И.П. Смирнов, Д. Уффельман, К. Шрамм. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2001. С. 125–155.
- 16. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Кучково поле, 2016.
- 17. Герасимов В. Эмоциональные матрицы украинских комбатантов в художественной литературе об АТО // Неприкосновенный запас. 2020. № 1 (129). С. 180–194.
- 18. Зорин А. Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2016.
- 19. Плампер Я. История эмоций. М.: Новое литературное обозрение. 2018.
- 20. Полiщук Я. Метафора i метонiмiя Донбасу // Критика. 2018. №1–2. С. 12–19.
- 21. Портнов А. “Донбасс” как Другой. Украинские интеллектуальные дискурсы до и во время войны // Неприкосновенный запас. 2016. № 1 (110). С. 103–118.
- 22. Терц А. Что такое социалистический реализм. Париж: Syntaxis, 1988. Gomza I, Koval N. The Winter of Our Discontent: Emotions and Contentious Politics in Ukraine during Euromaidan // Kyiv-Mohyla Law & Politics Journal. 2015. Vol. 1. P. 39–62. https://doi.org/10.18523/kmlpj52673.2015-1.39-62
- 23. Reddy W.M. The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- 24. Rosenwein B.H. Emotional Communities in the Early Middle Ages. N.Y.: Cornell University Press, 2006.
- 25. Rosenwein B.H. Problems and Methods in the History of Emotions // Passions in Context: International Journal for the History and Theory of Emotions. 2010. Vol. 1. P. 1–32.